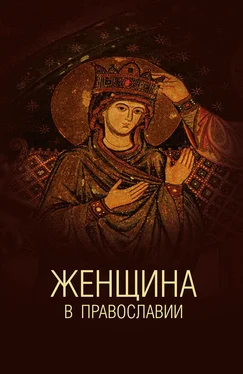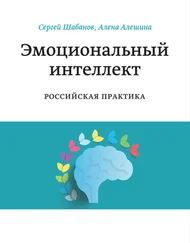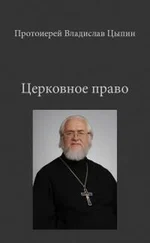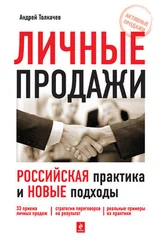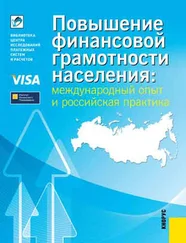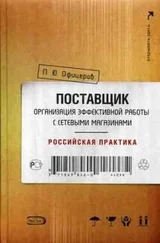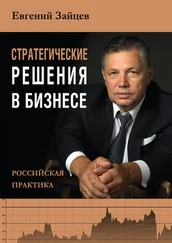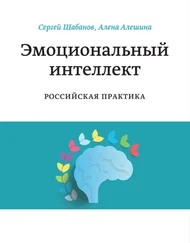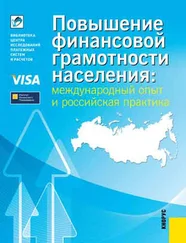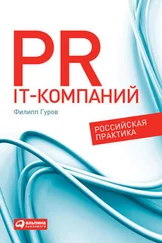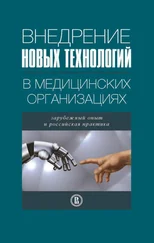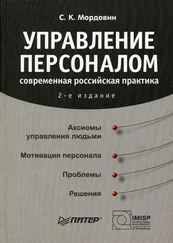Стоглав определил, что просвирницами могут быть однобрачные вдовы, «а поставляются от 40 лет до 50 лет», и не допустил «черницам» быть просвирницами в мирских церквах. В соборном ответе подчеркивалось, что просвирни могут читать только Иисусову молитву над просфорами, над кутьей, над свечами, не могут входить в алтарь и жертвенник, «но токмо власть имеют по благословению святительскому или иерейскому дорником на просфирах святый крест воображати с молитвою Исусовою, иная ничто же действуют» 40. Место просвирниц давало вдовам священников возможность получать определенный доход. Н. Бошковская считает, что просвирницы избирались общиной и поставлялись епископом или священником 41. Они могли давать определенный вклад, чтобы получить должность. Просвирницы получали оклад вдвое меньше, чем священник, но больше, чем обычный причетник. В XVII в. оклад мог быть выдан как деньгами, так и продуктами 42.
Просвирницы продолжали существовать до 1867 г. как особая категория причетников.
2. Женщины и монахи и проблема женской исповеди
Запрет женщинам посещать мужские монастыри строго соблюдается сегодня в афонской традиции, но этот запрет существовал во всех монастырях.
Соборные правила категорически воспрещали совместное пребывание женщин и мужчин в монастыре (не делая оговорки ни для духовников, ни для священников) и погребение женщин в мужском, а мужчин в женском монастыре.
47-е правило VI вселенского (Трулльского) собора содержало запрет оставаться в монастыре на ночь женщине в мужском, а мужчине в женском: «Ни жена в мужском монастыре, ни муж в женском да не спит. Ибо верные должны быть чужды всякого претыкания и соблазна, и благоугождати жизнь свою сообразно с благоприличием и благоприступанием ко Господу. Аще же кто сие учинит, клирик ли, мирянин ли, да будет отлучен» 43. В комментарии к этому правилу Вальсамон ссылается также и на гражданские законы, подтверждающие этот запрет: «А 2-я глава 123-й Юстиниановой новеллы, или 15-я глава 1-го титула 4-й книги Василик говорит: «ни женщина совершенно не должна входить в мужской монастырь, ни мужчина в женский ни под предлогом поминовения умершаго и там лежащего, ни по другой причине, ни даже в том случае, если кто имеет в монастыре брата, или сестру, или кого-нибудь из плотских родственников: ибо у монахов, поревновавших о жизни небесной, нет родства. Да для чего бы желающим и делать такие входы, если бы они не хотели сделать чего-либо запрещенного? И так и мужчинам следует делать в мужских монастырях приличное мужчинам, равно и женщинам следует в женских монастырях делать то, что предоставлено женщинам, так чтобы никто не смешивался с другим, ни даже в том случае, если бы кто-нибудь называл себя, например, братом, или сестрою, или другим родственником: ибо мы даже под этим предлогом не позволяем никому входить. Ибо если мы пресечем самые начала и воспрепятствуем прелести, которое чрез самое зрение вкрадывается в души, и положим препятствие происходящему отсюда падению, то будет гораздо легче и удобнее для священных подвижников исправление жизни на лучшее. Поэтому пусть все повинуются этому закону, и пусть ни мужчины не полагаются в могилах женских монастырей, ни женщины пусть не зарываются в мужских монастырях. Ибо как мужчинам неприличны помещения, назначенные для женщин, так и обратно и мужские помещения для собрания женщин. …Но, хотя это так ясно, однако же представляется необходимым часто входить в монастыри тем, которые служат при погребениях и особенно носящим одр. И в мужских монастырях это удобно, а в женских монастырях не так, по причине сказанного запрещения. Поэтому мы постановляем, чтобы, если когда-либо случится это, и в женском монастыре будут погребать какую-либо женщину (мужчину погребать не дозволяем), то благоговейнейшие жены (т. е. монахини) остаются в своем монастыре, и при совершаемом присутствует одна привратница, или привратницы, или, может быть, и сама игуменья, если захочет. И те, которые совершали установленное при погребении, копали могилу, по исполнении сего должны тотчас удаляться, не видев ни одной из благоговейнейших жен и не быв замечен ни одною из них» 44.
20-е правило VII вселенского (Никейского) собора содержало запрет на совместное проживание женщин и мужчин в монастыре: «Определяем не быти отныне монастырям двойным, потому что сие бывает соблазном и преткновением для многих. Аще же восхотят некии со сродниками отрещися от мира, и монашескому житию последовати, то мужам отходити в мужский монастырь, а женам входити в женский монастырь: ибо сим благоугождается Бог. А обретающиеся доныне двойные монастыри да будут управляемы по правилу святого отца нашего Василия, и по заповеди его, законополагающей тако: да не живут во едином монастыре монахи и монахини, потому что соводворение дает посредство к прелюбодеянию. Да не имеет дерзновение монах с монахинею, или монахиня с монахом беседовати наедине. Да не спит монах в женском монастыре, и да не яст монахиня вместе с монахом наедине. И когда вещи потребныя для жизни, со стороны мужеской приносятся к монахиням: за вратами оныя да приемлет женскаго монастыря игумения с некоею старою монахинею. Аще же случится, что монах пожелает видети некую родственницу, то в присутствии игумении с нею да беседует, не многими и краткими словами, и вскоре от нея да отходит» 45.
Читать дальше