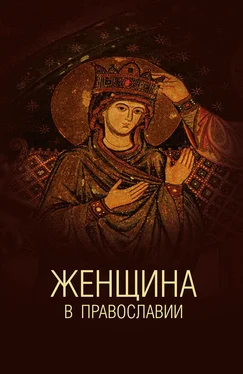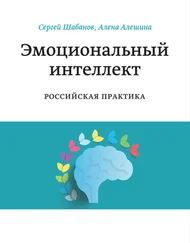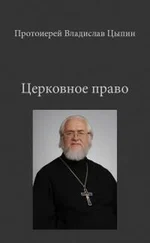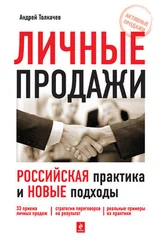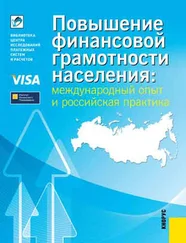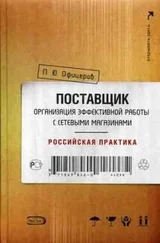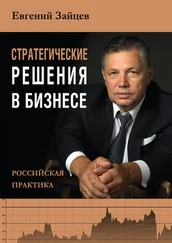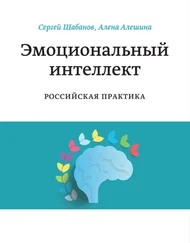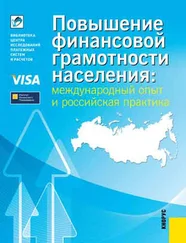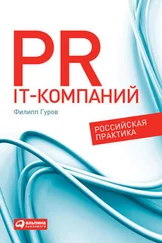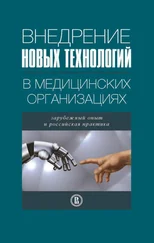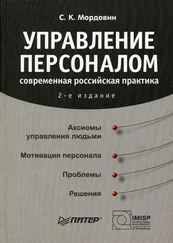Когда речь идет о создании церквей, основании монастырей, то княгини могут выступать наряду с князьями, а могут и действовать самостоятельно. Обращает на себя внимание тот факт, что в Синодальном и Варсонофьевском изводе Устава вел. кн. Владимира, определяющего область церковного суда и систему церковного обеспечения, князь Владимир выступает не один, а вместе с княгиней Анной 28. В волынской редакции имеется добавление о вкладах, сделанных княгиней, для церковного обеспечения: «И княгиня моя всю безценную кузнь, порты, и злато, и камение драгое, и великии жемчюг, иконы и еуангелиа, трапезы съсоуды царскими оукрасивши обогатих» 29. Особо выделена княгиня и в записи в Рязанской кормчей 1284 г. (древнейший восточнославянский список сербской редакции). Здесь приводятся слова княгини Анастасии, обращенные к епископу Иосифу, который возглавил ряд епископов на рязанской кафедре: «Благоверная княгини рече: да ти дась Бог, отче, за труд съ небесныи покои, не презре Бог в державе нашеи церковъ вдовьствующь, сиреч без епископа и без ученья святых отець» 30.
В списках русской редакции Кормчей Волынского извода воспроизводится запись 1286 г. с упоминанием княгини Ольги Романовны. Это жена галицкого князя Владимира Васильковича Елена Романовна (урожденная княгиня Брянская), получившая после мужа г. Кобрин (Гродненской губернии) 31: «Лета 6794. Сописан бысть сии номоканон б(о)голюбивим князем Володимиром с(ы)ном Васильковым внуком Романовым и б(о)голюбивою княшинею его Ольгою Романовною. Аминь, рекше конець. Б(о)гу наше(му) слава у векы аминь. Пишющим же нам сия книги, поеха г(о)с(по)дин нашь к Ногоеви, а (го)спожа наша остала у Володимире, зане бяше немощь б в вогони люто зело. Того ради немощно быс(ть) еи приводити его 32».
Княгини выступают ктиторами женских монастырей, которые могут стать и местом их пострига. Так, супруга князя Всеволода Юрьевича Мария основала во Владимире женский монастырь во имя Успения
Богородицы, который назывался Княгинин. Здесь были похоронены ее сестра и дочь, а в 1206 г. она сама постриглась и прожила здесь 18 дней до своей кончины 33. Воскресенский монастырь в Московском Кремле был основан вдовой Дмитрия Донского Евдокией (в монашестве Ефросинией) 34. Создание монастырей могло иметь целью организацию места погребения (см. ниже).
Не только княгини создавали монастыри. Как показало исследование Н. Л. Пушкаревой, абсолютное большинство из сохранившихся актов Древней Руси, созданных женщинами, представляют собой дарения в пользу монастырей 35.
Очень широкие функции женского служения в Церкви дает образ Евфросинии (Предславы) Полоцкой. Княжна самовольно постригается в монахини, занимается перепиской книг в Полоцком Софийском соборе, создает монастыри (не только женский Спасский, но и мужской – во имя Пресвятой Богородицы), постригает своих родственниц: сестру Гордиславу, двоюродную сестру Звениславу и двух племянниц, совершает вместе с сестрой Евпраксией паломничество в Иерусалим. На ее средства на Русь был доставлен Ефесский образ Богородицы (написанный, по преданию, св. Лукой), сделан золотой крест-мощевик 36.
В практике русской церкви сложился чин просфиропек, не известный в греческой. Просвирни (проскурницы) упомянуты среди «митрополичьих людей», на которых не распространяется княжеская юрисдикция 37. Е. Е. Голубинский считал, что эти женщины не только пекли просфоры, но и выполняли функции древних диаконисс: «Есть большая вероятность думать, что эти диакониссы или смотрительницы были и у нас, и что они-то и стали у нас просфоропеками, соединив в себе две должности. И не только весьма вероятно предполагать, что у нас эти диакониссы были, но даже едва ли не должно будет усвоять им за древнее время особое, так сказать, совсем причетническое значение» 38. О том, что просвирни не ограничивались выпечкой просфор, но также в нарушение церковных уставов совершали и проскомидию, свидетельствовал Стоглав: «Еще иное безчиние у проскурницъ горше сего. Боголюбцы дают проскурням деньги на проскуры о здравии или за упокой. И она спросит имени о здравие да над проскурою сама приговариваеть, якоже арбуи в чюди. А те проскуры попу дастъ, и поп и людям даеть, и к себе относит, а на жертвяникъ тех проскур о здравии и за упокой не проскомисает, и жертва к Богу от них не приносится» 39. Упоминание «чуди» («якоже арбуи в чуди») в данной статье Стоглава в этой связи вряд ли случайно, а указывает на особую роль женщин в культах финно-угорской традиции.
Читать дальше