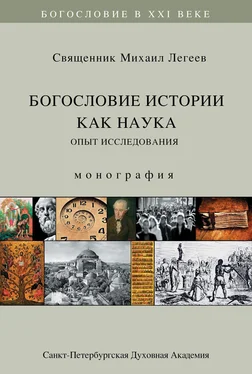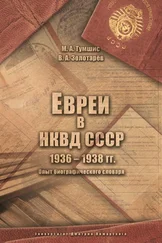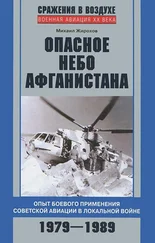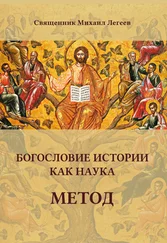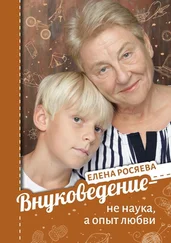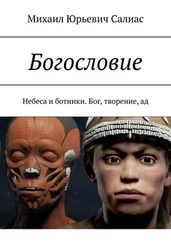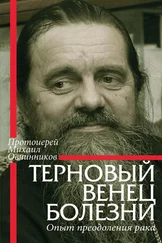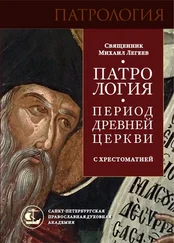Настоящий труд автора, вместе с вышедшей недавно монографией «Богословие истории и актуальные проблемы экклезиологии», представляет собой первую попытку обосновать богословие истории в качестве самостоятельного научного направления современной богословской мысли. Книга включает в себя несколько разделов.
Первый раздел посвящён вызреванию и формированию проблематики богословия истории в церковной мысли, начиная с апостолов и заканчивая современностью; в нём представлены ключевые вехи этого процесса, показана динамика историко-богословских интуиций и тем, с постепенным сплетением её в единую картину растущего церковного осознания грандиозной богочеловеческой тайны истории. Проблемы современной экклезиологии, имеющие своё практическое выражение – в частности, в отношениях между Русской и Константинопольской Церквами [10], – могут (и должны) быть успешно разрешены, в том числе, с помощью богословия истории, способного дать ценный научный материал для богословского осмысления современного и, вместе с тем, неизменного устроения Церкви и её жизни и развития в истории.
Второй раздел представляет опыт систематического обобщения и синтеза исследованного материала. Авторское видение богословия истории как науки использует опыт церковного Предания, но не останавливается на нём. Современность ставит новые вопросы, и становится необходимым предлагать конкретные пути и способы их решения, с учётом того опыта – в том числе проб и ошибок, – который мы имеем в прошлом. Обозначая предмет богословия истории, его метод, понятийный аппарат, отношения с другими богословскими науками, внутренние инструменты и модели, которые помогают выстроить структуру богословия истории как науки, саму внутреннюю структуру, основные темы и т. д., данный раздел монографии представляет в своей основе модель богословия истории как науки . Сама история покажет впоследствии её жизнеспособность.
Теснейшая связь богословия истории с экклезиологией обусловлена самим бытием Церкви как «стержня истории». В рамках исполнения общих задач в монографии попутно рассматриваются и частично раскрываются такие актуальные сегодня проблемы экклезиологии как устроение и историческое функционирование церковного организма, отношения Церкви со Святой Троицей, с человеком и с остальным миром, взаимоотношения свободы и необходимости на историческом пути человека, Церкви и мира, и некоторые другие.
Отдельному рассмотрению различных исторических процессов современности посвящён третий раздел монографии. Здесь затрагиваются наиболее общие вопросы и исследуется проблематика взаимодействия Церкви и мира, в том числе влияния мира на Церковь (проблема практики причащения) и Церкви на мир (явление экуменизма) в историческом контексте. Рассматриваются универсальные смыслы и характер функционирования и исторического развития основных социальных процессов – научного, педагогического, научно-технического.
Сегодня «наследие русской богословской науки открывает широчайшее поле для богословского творчества» [11], и плоды этого творчества мы видим в новых зарождающихся направлениях научно-богословской мысли, среди которых богословию истории может быть найдено вполне достойное место.
Раздел I. Формирование богословия истории в церковной мысли: ключевые вехи
Глава 1. Историзм Библии как основание богословия истории
«Мир Библии – это… мир как история» [12].
«Подобно тому, как в жизни каждого из нас Бог открывается постепенно, так и в истории человечества, как она представлена в Библии, “многократно и многообразно” (Евр. 1:1) являлся Он отцам и пророкам с возрастающей силой и глубиной. Эти откровения – составляют суть истории мира, наряду с которыми все иные события теряют своё значение» [13].
«Приложимы ли к Евангелию формальные признаки истории? … (В Евангелии) вечное открылось человеческому духу… и человеческий дух, бессильный обнять его, прикоснулся к нему с разных сторон» [14].
Всё Священное Писание, как в целом, так и в каждой книге в отдельности, свидетельствует о священном историзме – об истории [15], которая пронизана смыслом, которая разворачивается как грандиозная драма отношений Бога и человека [16], и как «необратимый поток, устремлённый к высшей цели» [17]. Историзм Библии предшествует всякому иному историзму, становится для него смысловым источником [18]. Впоследствии это особое чувство истории и отношение к ней входит в живой опыт Церкви, осмысляется её святыми, становится частью её Предания, находящего внутри себя вечную опору в текстах Библии. Именно этот святоотеческий опыт – как опыт в целом, так и конкретно опыт библейской экзегезы в той его части, которая касается проблематики богословия истории, в частности – остаётся для нас важнейшим критерием оценок тех или иных подходов и идей.
Читать дальше