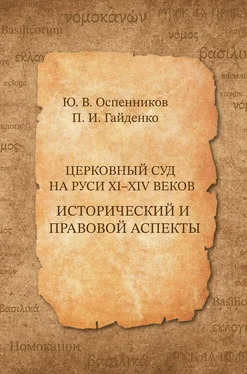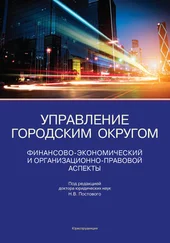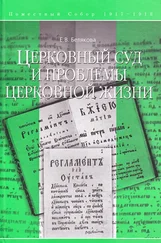1 ...6 7 8 10 11 12 ...21 При осуществлении духовно-дисциплинарного окормления паствы и духовенства серьезную проблему представляла административно-каноническая полифония Руси XI–XII вв. С определенной степенью допущения отмеченная черта церковно-правовых реалий Руси вполне может рассматриваться в качестве своего рода «правовой энтропии», порождаемой как нестабильностью и слабостью внутренней самоорганизации русской митрополии и даже отдельных епископий, так и динамичностью развития самих церковных институтов и церковной культуры в целом [66]. Вероятно, в условиях Руси энтропия возникла не как результат хаоса, а как ответ на усложнение социальной и политической структуры общества, еще переживавшего выход из состояния потестарности [67]и, одновременно, вовлеченного в процесс феодализации [68]. Широкая автономизация городов и усложнение отношений внутри правящего рода приводили к целому ряду конфликтов, находивших свое выражение и в церковной сфере, например в продолжительных тенденциях церковной автономизации целого ряда церковно-политических центров: Новгорода, Владимира-на-Клязьме, Турова и даже некоторых южнорусских центров в первые десятилетия ордынского господства. Здесь в условиях ослабления княжеской власти в 40-е годы XII в. местный епископат мог позволить себе провозгласить собственного митрополита и даже выступить против могущественного Даниила Галицкого [69], выразить готовность признать своим «господином и отцом» Римского папу [70]и даже проигнорировать участие в церковном Соборе 1273 г. Собственно, и само перемещение митрополитов во Владимир, а затем в Москву позволяет предполагать, что одной из причин, вынудивших первосвятительскую кафедру покинуть Киев, могли стать нараставшие с середины XIII в. между митрополитами и южнорусским епископатом противоречия.
Не меньшую проблему при решении проблемы организации и деятельности судов представляет вопрос об иерархии источников права и правовых норм, на которые опирался епископат при вынесении своих судебных постановлений. Однако самая сложная проблема – соотношение этих канонических норм с местным правом. Несомненно, русский епископат имел в своем пользовании Номоканон. И все же его применение представляло определенную сложность. Такую же сложность представляли и суды над духовенством, типология и легитимность которых заслуживает специального исследования.
Наконец, неоднозначно может оцениваться рост числа известий о церковных судах и судах над высшим духовенством на Руси, отмечаемый с середины XII в. и хорошо прослеживающийся в канонических шагах митрополита Петра во втором десятилетии XIV столетия. При всей негативной оценке деятельности епископских судов приходится признать, что уже сам факт их появления и включения в сообщения летописей и агиографических текстов указывает на рост если не канонического сознания, то, безусловно, канонических представлений и запросов современников из числа клириков, княжеского окружения и городского нобилитета. Возникает запрос на честный и справедливый суд.
* * *
Как представляется, не будет большим преувеличением признать, что история церковного суда на Руси XI–XIV вв. еще недостаточно хорошо изучена. Значительно лучше в отечественной историографии рассмотрена проблема юрисдикции церковных судов. Однако при этом исследователи исходили из того, как полномочия церковного суда были закреплены в княжеских уставах Церкви и в нормах Номоканона. Сама же судебная практика, кажется, ни разу не подвергалась систематическому исследованию и была рассмотрена лишь в рамках локальных сюжетов. Между тем, ее рассмотрение позволяет заключить, что ситуация была сложнее, чем это принято считать. Церковный суд на Руси не только стремился к соответствию византийской церковной судебной традиции, но и приобретал черты, отражавшие местный культурный и политический колорит. Можно говорить даже о том, что формы и практика этого суда постоянно эволюционировали. При этом возникавшие изменения далеко не всегда предполагали строгое следование канонам. В то время, как суды митрополитов ориентировались на богатую и достаточно строгую в своих формулах византийскую правовую традицию, суды, совершавшиеся епархиальными архиереями, далеко не всегда соответствовали духу и букве канонического права империи ромеев. Однако с уверенностью можно констатировать, что уже с середины XII в. церковные суды стали важнейшим каноническо-правовым институтом, призванным регулировать настроения внутри духовенства, епископата, обеспечивая управляемость киевской митрополии и поддерживая высокий статус русского первосвятителя и константинопольского патриарха, выступавшего высшей апелляционной инстанцией по судебным спорам в Церкви.
Читать дальше