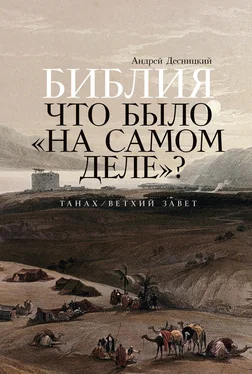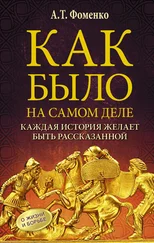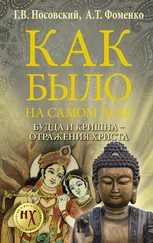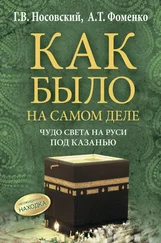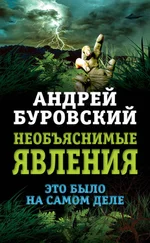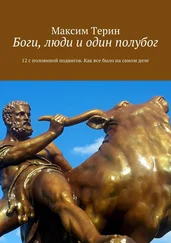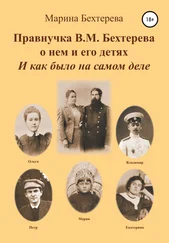При этом стоит отметить один парадокс. Как сформулировал основную точку зрения ученых последних десятилетий Д. Флеминг, «название Израиль не могло использоваться в царстве со столицей в Иерусалиме в X и VIII вв. до н. э., когда это название связывалось исключительно с его северным соседом» [139] Fleming D. E. Israel and the Jerusalem Temple in the Time of Two Kingdoms. In Archaeology and History of Eighth-Century Judah. Ed. Farber Z. I., Wright J. L. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2018. P. 518.
. И тут же он отмечает два факта, которые явно противоречат такому заключению: в библейских повествованиях о временах Саула и Давида это название прочно ассоциируется с единым народом и точно так же это выглядит в первой части Книги Исайи, написанной в те времена, когда Северное царство вполне себе процветало.
Сам Флеминг приводит следующий пример из Новейшей истории: название Китай относится одновременно к огромной стране на континенте и к сравнительно небольшой на острове Тайвань, причем для того и другого государства эта идентификация принципиальна. Но, как мы прекрасно понимаем, это становится желательно и вообще возможно лишь в том случае, когда две страны имеют некую общую культуру, сходную (пусть и не одинаковую) идентичность. Мы не знаем, как будут развиваться дальше отношения между Пекином и Тайбэем, суждено ли им когда бы то ни было объединиться в одно государство, не знаем, каким может быть это объединение и к чему оно может привести. Но мы видим, как обе столицы настаивают, что именно они представляют правильную версию «китайской идеи».
И в самом деле, на протяжении истории далеко не всегда все носители китайской культуры проживали в одном и том же государстве. Более того, сами границы этого «китайского мира» во многом определяются политической историей: тибетская или уйгурская культуры, несомненно, не ближе к китайской, нежели корейская или вьетнамская, но Тибет и Синьцзян входят в состав материкового Китая, а Корея и Вьетнам – нет.
Итак, мы можем предположить, что единая монархия была не столько реальностью X в. до н. э., сколько проектом, который уже тогда воспринимался как возможность, а с конца VIII в. до н. э., после разрушения Северного царства, – как необходимость. Этот проект был основан на несомненной культурной, в том числе и религиозной, общности племен, составлявших население двух царств (общность не означает полной идентичности). Глядя из того времени, когда из двух царств осталось только одно (после 722 г. до н. э.), повествователи вполне естественным образом отождествляли древнюю историю именно с Южным царством и считали его законным носителем единой израильской культуры и естественным наследником древних царей и героев, что и отразилось в повествованиях книг Царств.
Именно такая версия, на мой взгляд, объясняет наибольшее количество фактов ценой наименьших допущений.
Вместо окончательных выводов
Здесь надо бы подвести итоги книги – повторить ее основные тезисы и напомнить выводы. Но я подозреваю, что у каждого читателя выводы будут свои. И это правильно.
Приведу лучше цитату из книги исследователя историчности библейских повествований Яна Уилсона:
Что делать с текстами, которые представляют неисторические события так, чтобы они выглядели историческими? Можем ли мы «делать историю» на материале текстов, описывающих события и личности, для которых не обнаруживается фактических соответствий? Можем ли заниматься историческими исследованиями, которые относились бы к завоеванию Ханаана Иисусом Навином или к убийству Эхудом Моавского царя Эглона – только два примера? Полагаю, что можем. Но наше историческое исследование в таком случае породит не повествование о победах Иисуса или об Эхуде как судье. Библия уже содержит такие нарративы. Напротив, наша работа будет посвящена исследованию этих текстов как источников, говорящих о культурах, внутри которых и ради которых они возникли как литературные произведения, и таким образом упрочит наше понимание истории древнего израильского или иудейского общества и его жизни, как это произошло с недавними работами по Давиду и израильской монархии [140] Wilson I. D. History and the Hebrew Bible: Culture, Narrative, and Memory. Brill Research Perspectives in Biblical Interpretation. 2019. Р. 48.
.
Иными словами, мы не всегда можем в точности понять, что именно происходило три-четыре тысячелетия назад. Но можем попробовать разобраться, почему именно эти события остались в памяти того или иного общества и почему о них рассказывали именно таким образом. Дальше каждый выбирает сам: оставаться ли внутри этого рассказа, принимая его за буквально достоверный, или, напротив, отбросить все, что не доказано с абсолютной надежностью при помощи перекрестных источников и археологических находок. Или, может быть, пойти средним путем и воспринять этот рассказ как миф, отражающий историческую реальность не напрямую – ведь от этого она не перестает быть реальной?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу