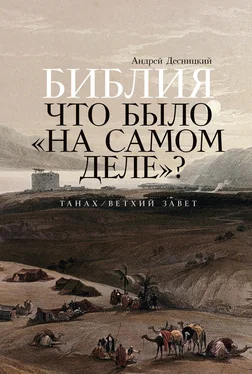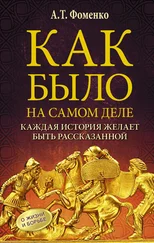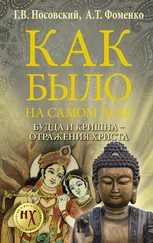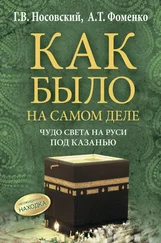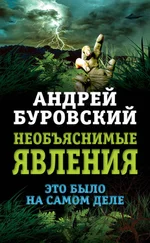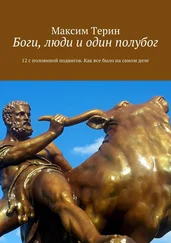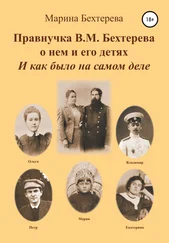Но мы еще не закончили наше мысленное путешествие от естественных наук к… противоестественным? Или сверхъестественным? Во многих европейских университетах традиционно существуют теологические факультеты, но… Бога невозможно изучать, как древнюю рукопись, или тропическую бабочку, или пусть даже самую далекую звезду. Следовательно, изучают не Бога, а идеи о Боге и теология, или богословие, – наука не о Боге, а, скорее, о том, как люди о Боге говорят. Богослововедение, если угодно, схоже с литературоведением – наукой не о том, как написать гениальные стихи, а о том, как гениальные стихи устроены. Можно сказать, теология примерно то же, что религиоведение, но религиовед смотрит на свой материал извне, а теолог – изнутри религиозной традиции.
Примерно то же самое, кстати, касается философии: на философских факультетах не столько предаются размышлениям о смысле жизни и тщете всего сущего, сколько изучают историю подобных размышлений. Богословие – в некотором смысле частный случай подобной философии.
Притом чем меньше в науке естественного и чем больше общественного, тем она субъективнее: исследователь не может отождествить себя с тропическим цветком, с далекой звездой или математической формулой, но с людьми он себя неизбежно в некоторой степени отождествляет, сочувствует им или спорит с ними, оценивает их поступки и слова не только как ученый, но и как человек. Даже выбор объекта исследования уже в огромной степени определяется его личными пристрастиями.
А если речь идет о материях, связанных с религией, исследователь может встретиться с вопросами, которые касаются самых главных в жизни вещей. И как тут оставаться объективным? Может ли он забыть о своих предпочтениях, воззрениях, верованиях? Видимо, может постараться сделать так, чтобы они не диктовали ему готовых выводов, но и это бывает не просто.
Гуманитарии обычно не ставят экспериментов, а занимаются по преимуществу интерпретацией текстов, притом всякое понимание текста рождается только в голове у человека, под влиянием определенных идей и контекстов. Это можно сознавать и делать соответствующие поправки, но от этого невозможно избавиться – «химически чистого» значения не существует в принципе, есть только чье-то личное или групповое понимание, которым можно делиться, которое можно обсуждать и исследовать, но абсолютной объективности тут не достичь.
С другой стороны, у многих возникает желание (верующий назовет его искушением) вещать истины от имени непререкаемого авторитета. И если в Средневековье таким авторитетом обладала религия, то сегодня его все чаще приписывают науке. Фраза «ученые доказали» в желтой прессе звучит так же весомо и безапелляционно, как некогда звучало «так повелел Господь».
Вопросы эти касаются ученых самых разных верований и воззрений, которые живут в самых разных странах, но есть тут у России и своя специфика. Мы слишком привыкли к доминанте одной идеологии. Раньше это была идеология атеистическая – так, в СССР из одного издания в другое перепечатывались теории о максимально позднем происхождении всех библейских книг: вплоть до изданий 1980-х гг. «Настольная книга атеиста» [4] Настольная книга атеиста / Под ред. Д. С. Сказкина. – М.: Политиздат, 1987.
повторяла абсурдное утверждение, будто Деяния апостолов были написаны в конце II в. и стали последней книгой Нового Завета. Интенция понятна: доказать, что библейские тексты поддельны и недостоверны. С тех пор переменился вектор движения, но сменить образ мышления намного труднее, и верующие порой стремятся доказать противоположное тому, что доказывали атеисты, пользуясь практически той же логикой.
В советские времена наукой было принято называть и то, что ею никоим образом не являлось, в особенности – марксизм-ленинизм. Можно было сделать успешную научную карьеру, защитив диссертацию, например, по теме «Партийное руководство противопожарными формированиями Ленинграда в годы Великой Отечественной войны» (С. В. Степашин). Понятно, что никакого научного метода и никакого приращения знания в таком труде не было по определению, в нем могли содержаться только многочисленные подтверждения лояльности диссертанта линии партии.
По сложившейся традиции и после падения коммунизма можно встретить такую разновидность «церковной науки», как повторение азов, подтверждение своей лояльности учению Святых Отцов. Прекрасно, если человек верен этому учению и говорит об этом вслух, но одно данное обстоятельство еще не делает его ученым.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу