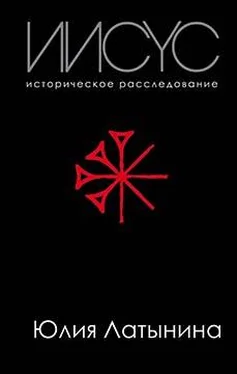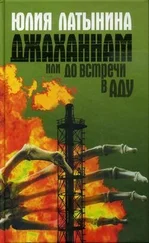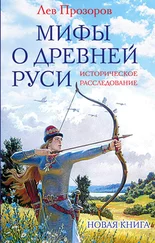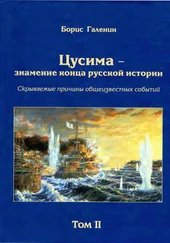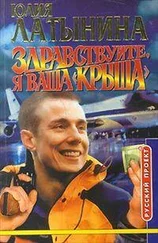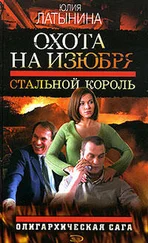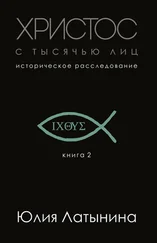Проблема, однако, заключается в том, что в течение почти целого века со времени появления Евангелия от Марка эти четыре Евангелия не назывались никак . Даже ортодоксальный апологет Юстин Мученик, писавший в 130–160-х годах, хотя и цитирует эти Евангелия, никогда не называет их «от Матфея», «от Марка», «от Луки» или «от Иоанна».
Первый раз названия «от Луки» и «от Иоанна» встречаются в тексте, который называется «фрагмент Муратори». Он написан в Риме около 170 г. н. э. и содержит список книг, которые Римская церковь считала тогда каноническими.
Вскоре после составления этого списка Ириней Лионский, назначенный римской церковью епископом в галльский город Лион, написал сочинение «Против ересей», и в этом сочинении он уже назвал Евангелия их привычными названиями: от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна.
Итак, представитель римской церкви Юстин Мученик в 160-х годах еще не знает имен евангелистов, а представитель римской церкви Ириней Лионский уже в 180-х годах знает эти имена. Более того, он утверждает, что Евангелий должно быть четыре, и ровно четыре. Он плетет для этого какие-то сложные нумерологические рассуждения.
Как предположил недавно Барт Эрман, это означает, что названия «от Марка», «от Луки» и пр. появились в Риме в 170-х годах н. э. Вероятно, в это время вышло «издание» четырех Евангелий, которые были признаны Римской церковью каноническими. Именно в этом издании они получили свои нынешние имена [251] Bart Ehrman. Jesus Before the Gospels, HarperCollins, 2016, p. 124.
.
До этого их авторство было неясным.
Это, с одной стороны, радует, потому что снимает с авторов Евангелий подозрение, что они писали заведомые подделки, как это часто утверждают примитивные атеисты. У нас нет никаких оснований утверждать, что человек, написавший спустя полвека после казни Иисуса Евангелие от Матфея, лично выдавал этот текст за Евангелие, написанное апостолом Матфеем. Но с другой стороны, у нас есть большое основание подозревать, что он написан не Матфеем и что Матфею его приписали только в 170-х годах.
Итак, мы имеем дело с текстами, которые написаны языком, которым Иисус не владел, и этот язык принадлежал народу, который Иисус называл «псами». Эти тексты были написаны через два-три поколения после смерти Иисуса. А приписаны нынешним «авторам» еще через сто лет.
Кончились ли на этом наши проблемы?
Увы, нет.
Мы не можем быть уверены в том, что современный текст Евангелий есть именно тот, который вышел из-под стилоса их авторов.
Со времени книгопечатания мы привыкли думать о книге как о чем-то неизменном. В мире массового производства каждая книга, вышедшая из-под печатного станка, так же идентична другим книгам того же тиража, как автомобиль, сошедший с конвейера, идентичен автомобилям той же марки, серии и комплектации.
Однако в Античности процесс книгоиздания выглядел иначе. Книги переписывали от руки. Иногда это делали профессиональные издатели, и тогда чтец, сидящий на возвышении, читал рукопись, а профессиональные переписчики скрипели перьями. В таком случае в текст вкрадывались в основном фонетические ошибки. Иногда это был самиздат: книгу переписывали любители. Любитель, не являвшийся профессиональным переписчиком, мог что-то перепутать, что-то переделать, а кое-что и нарочно убрать.
В течение первых четырех веков существования христианства Евангелия переписывали в основном непрофессиональные переписчики. Они допускали ошибки. Их представления о Христе были очень разными. Если они видели в книге что-то, что, по их мнению, было неправильным, они могли внести в текст изменения.
Для этого им даже не нужно было сознательно подделывать текст: достаточно было лишь убедить себя, что неправильный текст есть результат козней еретика и правка восстанавливает его первоначальное значение.
Мы привыкли думать о тексте как о твердом состоянии слова — в противовес газообразному устному слову. Однако текст Нового Завета в течение первых веков его бытования был не твердым и не газообразным — он был, ежели угодно, желеобразным. Он напоминал палочку пластилина, которая, если ее не трогать, сохраняет свою форму, но при известном усилии легко деформируется.
К примеру, в Евангелии от Матфея Иисус говорит о времени наступления Царствия Божия: «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, а только Отец Мой один» (Мф. 24:36). После принятия Никейско-Константинопольского символа веры кто-то из переписчиков нашел идею о том, что Сын чего-то не знает, плохо совместимой с идеей всеведущего Триединого Бога. Одним мановением пера он исправил ситуацию, вычеркнув из боговдохновенного текста слова «Ни сын» [252] Bart Ehrman. Misquoting Jesus, HarperCollins, 2005, p. 95.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу