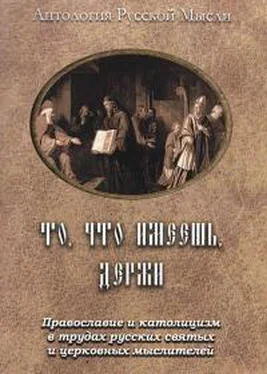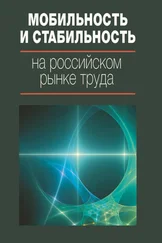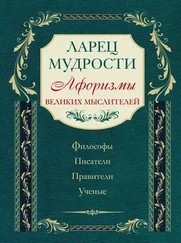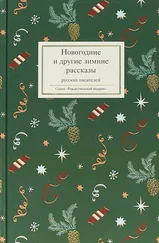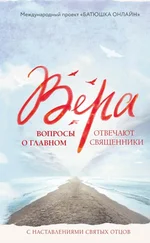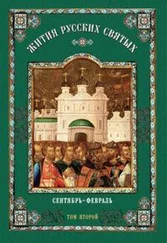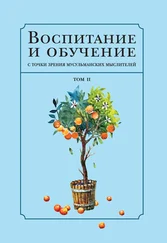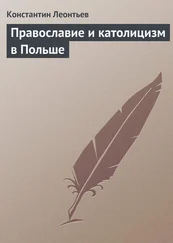Иезуиты не упускали ни одного случая закинуть камень в светские учебные заведения и заподозрить не только дух их преподавания, но и самую их нравственность; между тем, вот что пишет граф Толстой на основании иезуитских документов: «Чувство приличия не позволяет нам распространяться о противохристианских и даже противоестественных поступках некоторых из иезуитов, ни о постыдных пороках, господствовавших в их училищах; но мы считаем своею обязанностью заявить, что, если кто-нибудь из членов общества вздумает заподозрить правдивость нашего свидетельства, то мы будем вынуждены представить на суд публики подлинные документы, содержащие в себе неопровержимые доказательства гнуснейших дел, содеянных иезуитами». Книга графа Толстого вышла в Париже в 1864 году, но, сколько мне известно, никто доселе не принял его вызова; а это было бы гораздо доказательнее голословных заявлений вроде того, что иезуиты носят имя Иисусово, приносят безкровную жертву и сами ничего предосудительного о себе не рассказывают.
Наконец, иезуиты торжественно обязались воздерживаться от всякой пропаганды между православными и самым наглым образом нарушили свое слово. Не упоминая о многих других, они совратили, в глазах графа Ростопчина, его жену и в глазах своего покровителя, князя Голицына, несовершеннолетнего его племянника. Вы скажете, что пропаганда — назначение иезуитов и что следовало это предвидеть. Правда, но зачем же было давать слово, вопреки своему назначению? Вы скажете, что иезуитское слово не вяжет иезуитской совести и что вольно же было этого не знать — вы и в этом правы; но не удивляйтесь, что наведя справку и узнав, наконец, хотя и поздно, каких людей оно у себя приютило, правительство одумалось и показало им путь навсегда.
Вы утверждаете, что поводом к четвертому и последнему изгнанию иезуитов послужило будто бы «не иное что, как совращение православных в католическую веру», и советуете редактору «Дня», чтобы убедиться в этом, перечитать указ об их удалении. Позвольте и мне присоветовать вам перечитать кстати все четыре указа об удалении их из Петербурга и о закрытии их училища, от 20 декабря 1815 года, о распределении имущества и о долгах 29, оставленных ими в Петербурге, от 25 мая 1816 г, и, наконец, о высылке их из России от 13 марта 1820 г. При самом беглом чтении вы удостоверитесь, что кроме совращений, на иезуитов падали и другие обвинения; а если вы захотите вникнуть в смысл высочайше утвержденного доклада министра духовных дел, то вы усмотрите, что иезуиты вызвали против себя негодование правительства и общества не пропагандою латинства вообще, а обстоятельствами, ее сопровождавшими: нарушением данного слова, употреблением во зло доверенности родителей, на слово отдававших им своих детей, наконец, вообще, средствами, употребленными ими в дело. Вы могли видеть из предыдущего, что я не принадлежу к числу безусловных поклонников александровской эпохи; но я отдаю справедливость людям того времени. При всей шаткости их понятий и неустойчивости их направления, они не терпели притворства, не мирились с обманом и ненавидели подлость: чувство чести и гражданской честности было в них живо и сильно развито. Это именно чувство и заговорило против иезуитов. Оно не вынесло их воровских приемов. Я произнес слово жесткое и не беру его назад. Пусть рассудят читатели, вправе ли я был употребить его. Иезуит, аббат Сюрюж, писал одному из своих собратьев о графине Ростопчиной, которую он совратил: «Несмотря на строгий мой запрет и несмотря на все мои увещания, она поведала тайну своему мужу... Этот необдуманный поступок срезал меня с ног». Он в другом письме объяснил следующее: «Зная край, я, из предосторожности, не возбуждаю рвения, а только направляю его, и в результате всегда оказывалось, что руководимые таким образом сами собою приходили к желанному концу. В сношениях моих с потаенною моею паствою (mes ouailles secrétes) затрудняет меня более всего не исповедь, а приобщение. Исповедовать я могу во время гулянья, в гостиной, на людях, не возбуждая ни малейшего подозрения, но приобщая, я подвергаюсь гораздо большей опасности. Поэтому я просил бы вас сообщить мне ваше мнение об одном моем изобретении. Я придумал устроить серебряный ларчик, в который бы можно было укладывать святые дары (следует подробное описание его устройства и наставление как проносить его накануне в комнату причастника для того, чтобы он мог на другой день поутру, после обычной молитвы, приобщиться наедине). Таким образом, — продолжает изобретатель, — устранились бы, я думаю, все неудобства тайного приобщения».
Читать дальше