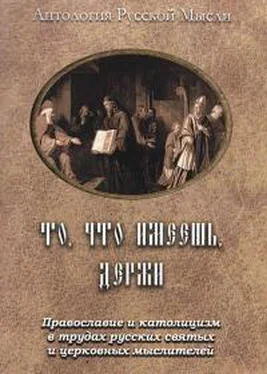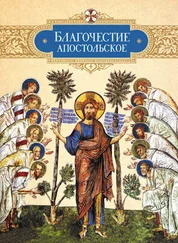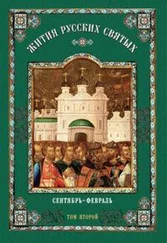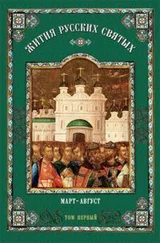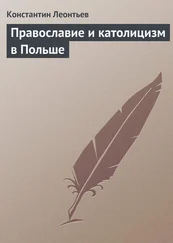И это все принимал к сведению, по крайней мере, выслушивал русский министр народного просвещения! Мы не знаем, что он отвечал, не знаем даже отвечал ли что-нибудь; но доказательством его безпримерного долготерпения служит одно уже то обстоятельство, что переписка длилась довольно долго (всего сохранилось пять писем по поводу Полоцкой коллегии) и все в одном тоне. Тон этот, как одно из знамений того времени, сам по себе назидателен. Поверенный иностранной державы, притом еще иноверец, впутывается в вопрос внутреннего управления, тесно связанный с интересами чуждой ему церкви; при этом он берется за дело не как ходатай, а как власть имущий, не просит, а обличает и тянет к ответу. Он подступает к русскому министру народного просвещения, уставив в него строгий начальнический взгляд, хватает его за ворот, трясет, поднимает с министерских кресел, садится на его место и, поставив его перед собою, как школьника, читает ему нотацию о том, что для России нужно и что не нужно, как управлять русскими: чему их учить или, точнее, чему их не учить.
В это же время министр иностранных исповеданий князь А. Н. Голицын, ближайший советник и друг императора, получил от подчиненного ему генерала иезуитского ордена записку такого содержания: «Ваше превосходительство усмотрите, что вам не много будет дела до монахов иезуитского ордена; ваша обязанность, в отношении к ним, ограничится выслушиванием их просьб, буде встретятся дела, по которым введение или исполнение чего бы то ни было потребовало бы разрешения правительства, и принятием от них жалоб, если бы белое духовенство вздумало каким бы то ни было образом досаждать им».
А между тем ни государь, ни ближайшее его окружение не питали к иезуитам никакого сочувствия. Граф Местр свидетельствует даже, что император Александр был предубежден против них более, чем кто-либо из современных ему государей; казалось бы, что и религиозное настроение князя А. Н. Голицына, каково бы оно ни было само по себе, должно бы было, при некоторой логической последовательности, по крайней мере, оградить его от их влияния; и несмотря на все это, в первые годы царствования императора Александра иезуиты заговорили у нас таким голосом, какого, конечно, не потерпел бы ни Филлипп II, ни Людовик XVI. Вся сила их заключалась в духовном безсилии той среды, в которой они действовали. Здесь, то есть в высших слоях петербургского общества и, разумеется, только здесь, все им благоприятствовало.
С самого начала своей революции Франция сдала России целую толпу эмигрантов, которых мы, по своей привычке, приняли с распростертыми объятиями; иным из них удалось дослужиться до высоких чинов и видных должностей, другие приютились в семьях высшего дворянства в качестве нахлебников, третьи — в качестве гувернеров и учителей; последние дали тон домашнему воспитанию и наложили свою печать на целые поколения. Таким образом, почва была подготовлена для иезуитского сева. В те времена план воспитания для русского дворянина составлял по просьбе родителей какой-нибудь аббат Николь; ему же поручалось и приискание наставника; этот наставник учил всему, разумеется, по-своему, в крайности, даже и русскому языку. Какое место в таком воспитании отводилось русской истории и Православной Церкви, нетрудно себе представить. По чувству приличия, для прохождения краткого катехизиса приглашался приходский священник; но гувернер поглядывал на него косо, по окончании урока совал ему в руку билет и выпроваживал его из дому. Отсюда до отдачи мальчика в иезуитский пансион был один шаг.
Почти в одно время с эмигрантами обломки польской аристократии, собравшиеся в тесную группу около князя Чарторыйского, всплыли на поверхность и заняли видное место в правительственных сферах и в высшем петербургском обществе. Все это тянуло одно к другому, сближалось естественно, даже без преднамеренной стачки, и не только не распускалось в русской среде, а напротив, мало-помалу окрашивало ее в свой цвет. Само собою разумеется, что эта среда подчинялась не одним латинским влияниям. Отверстая для всего и ко всему восприимчивая, она проникалась еще охотнее либеральными стремлениями, совершенно искренними, но безплодными по своей отвлеченности, и с особенною любовью лелеяла туманные мечты о каком-то будущем духовном единении племен и правительств, в безразличном равнодушии ко всем формулам веры. Всякое, со стороны занесенное, учение, политическое или религиозное, всякая фантазия, всякий призрак могли, до известной степени, рассчитывать на успех и внушать сочувствие. Конечно, одно с другим не клеилось, но все вместе ускоряло разложение народных стихий, издавна начавшееся в нашем дворянстве. Таково свойство внутренней пустоты при легкой восприимчивости. По-видимому, все сияло благонамеренностью; зародыши всевозможных благих начинаний носились в общественной атмосфере; а между тем живое, народное самосознание гибло. При сильно развитом государственном патриотизме терялся народный смысл: историческая память была как бы отшиблена; непосредственное ощущение всего пережитого прошедшего в каждой минуте настоящего было утрачено; народный язык сделался как бы чужим, своя вера упала на степень всякой иной веры.
Читать дальше