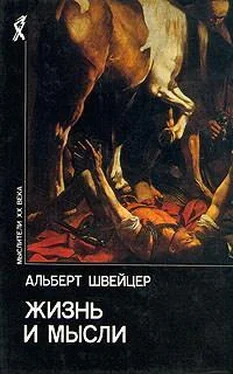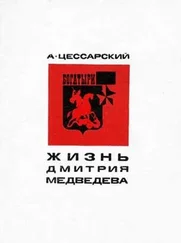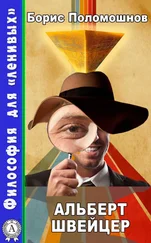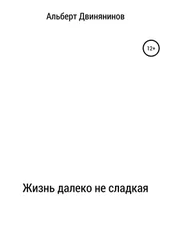Я был удивлен и обрадован тем, что моя работа получила признание даже в Германии — как вносящая вклад в изучение Баха. Ведь я писал ее просто для того, чтобы заполнить пробел в имеющейся на французском языке музыкальной литературе. В журнале "Kunstwart" фон Люпке поднял вопрос о переводе. В результате осенью того же 1905 г. издательство "Брейткопф и Хэртель" заключило со мной договор о подготовке немецкого издания книги.
Когда летом 1906 г., закончив "Историю изучения жизни Иисуса", я вернулся к работе над немецким изданием "Баха", то скоро убедился, что не могу переводить самого себя на другой язык и что если я хочу сделать что-то путное, то должен заново окунуться в исходный материал. Поэтому я закрыл французскую книгу и решил делать новый и лучший немецкий вариант. В результате, к ужасу и удивлению издателя, объем книги увеличился с 455 до 844 страниц. Первые страницы новой книги я написал в Байрейте, в гостинице "Черный конь", после удивительного представления "Тристана". До этого я неделя за неделей тщетно пытался приступить к работе. Благодаря приподнятому настроению, в котором я вернулся с Фестивального холма, мне это наконец удалось. Под шум голосов, проникавший в мою душную комнату из расположенного под ней пивного зала, я начал писать, а когда положил перо, солнце уже давно взошло. С этого времени я работал с такой радостью, что закончил книгу в течение двух лет, хотя занятия медициной, подготовка к лекциям, работа проповедником и концертные поездки не позволяли заниматься ею непрерывно. Сплошь и рядом я вынужден был откладывать своего "Баха" в сторону и неделями не прикасаться к нему.
Немецкое издание появилось в начале 1908 [34] Albert Schweitzer. J. S. Bach. Leipzig, 1908. 844 S. (Русский перевод: Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. М., 1964. )
. Прекрасный английский перевод сделал Эрнест Ньюмэн [35] Английское издание появилось в 1911 г. в двух томах точно так же у Брейт-копфа и Хэртеля. Сбыт приняло на себя в 1923 г. издательство "А. & S. Black" в Лондоне.
.
В своей борьбе против Вагнера антивагнерианцы апеллировали к идеалу классической музыки, как они его себе представляли. Они определяли его как "чистую" музыку, а в качестве чистой признавали лишь такую, которая не позволяет предполагать у ее создателя каких-либо поэтических или изобразительных целей, но продиктована исключительно заботой о том, чтобы дать прекрасным мелодическим линиям наиболее совершенное воплощение. Бах, произведения которого в полном объеме постепенно начали приобретать известность (благодаря Баховскому обществу, которое в середине ХIХ в. предприняло издание его сочинений), по утверждению антивагнерианцев, исходил именно из этих принципов — так же как и Моцарт. И оба они, как классики, противопоставлялись Вагнеру. Фуги Баха, как им казалось, неопровержимо доказывают, что он служил их идеалу чистой музыки. Классиком именно такого типа рисует Баха Филипп Шпитта в своем большом двухтомном труде, в котором впервые приводит биографические сведения, основанные на тщательном изучении источников [36] Первый том вышел в 1873, второй — в 1880 г.
.
В противоположность образу Баха, созданному этими хранителями Грааля чистой музыки, я рисую Баха как поэта и живописца в музыке. Все, что есть в тексте, будь то эмоциональное или изобразительное, он стремится воспроизвести на языке музыки со всей возможной жизненностью и ясностью. Прежде всего он стремится передать звуками зрительные образы. Он даже больше художник звука, чем поэт звука. В своем искусстве он ближе к Берлиозу, чем к Вагнеру. Если в тексте говорится о кочующих туманах, о буйных ветрах, о ревущих потоках, о набегающих и уходящих волнах, о падающих листьях, о звонящих по усопшему колоколах, о твердой вере, идущей уверенной поступью, или о слабой, которая спотыкается на каждом шагу, о посрамлении гордого и возвышении смиренного, о восставшем сатане, о парящих в облаках ангелах, — все это видишь и слышишь в его музыке.
Действительно, языком звуков Бах владел абсолютно свободно. В его музыке мы находим постоянно повторяющиеся ритмические мотивы, выражающие мирное блаженство, живейшую радость, глубокое горе или возвышающее душу страдание.
Стремление выразить звуками то, что передается поэтическими и живописно-пластическими средствами, заложено в самой сущности музыки. Музыка обращается к творческому воображению слушателя и пытается пробудить у него тот эмоциональный опыт и те зрительные образы, из которых возникла она сама. Но она может сделать это лишь в том случае, если говорящий на языке звуков обладает таинственной способностью излагать на нем свои мысля с ясностью и определенностью, которые превышают естественные выразительные возможности этого языка. В этом отношении Бах — величайший из великих.
Читать дальше