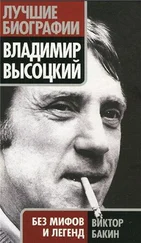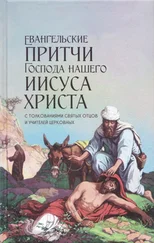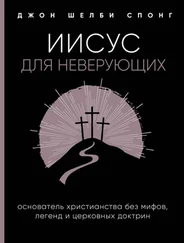Роль Израиля отныне заключалась не в стремлении к силе, но в принятии собственного бессилия как образа жизни
В рассказе о явлении Воскресшего на пути в Эммаус Лука говорит, что Иисус, еще не узнанный, «истолковал им во всех Писаниях то, что относится к Нему» (24:27). Позже, когда Иисус у Луки явился ученикам, он «открыл их умы, чтобы понять священное писание» и сказал: «Так написано, чтобы Христу [Мессии] пострадать и воскреснуть из мертвых в третий день» (24:45–46). Лишь у Второисаии дан портрет того, кто через страдание и смерть приносит людям освобождение.
Перед нами поистине поразительная картина – не божества и не пришельца свыше, но прожитой человеческой жизни, которая сумела преобразовать мир вокруг и создать новое человечество посреди старого. Второисаия, следовательно, стал лишь еще одним в череде еврейских представлений, указывавших на значение Иисуса. Теперь Иисус – «Раб Господень», человек, нашедший способ преодолеть собственное бессилие. Вероятно, это наиболее глубокий из всех образов, которые мы находим в Евангелиях, и нам следует осознать, что именно через призму Второисаии последователи Иисуса начали рисовать совершенно новый его портрет.
Царь-пастырь Второзахарии
В некотором смысле слова пророк, известный нам как «Второзахария» опирался на «Раба» Второисаии, создавая свой образ «Царя-пастыря» Израиля, поскольку между ними существуют заметные черты сходства. Оба они вошли в еврейскую Библию, будучи включенными в более ранние произведения, а едва попав туда, часто оказывались проигнорированными. Со временем христианские ученые выявили роль Второисаии, ставшего одним из популярных средств интерпретации. Второзахария, с другой стороны, остается в тени, а его влияние обычно приглушается. Тем не менее, на мой взгляд, можно доказать, что не только Второисаия, но и Второзахария в большей степени, чем любая другая часть еврейской традиции, сформировали память об Иисусе.
Первое, что следует здесь отметить – то, что Второзахария скрыто и явно присутствует на заднем плане каждого из канонических Евангелий. Наиболее очевидный тому пример, уже упомянутый выше, – вход Господень в Иерусалим. Стихи из него часто читаются как отрывок из еврейской Библии в Вербное воскресенье:
Ликуй от радости, дщерь Сиона,
Торжествуй, дщерь Иерусалима:
Се, Царь твой грядет к тебе,
праведный и спасающий,
кроткий, сидящий на ослице
и на молодом осле, сыне подъяремной.
(Зах 9:9–11)
Данная связь поднимает в моем сознании вопрос об историчности событий Вербного воскресенья. Она представляется еще одной попыткой представить Иисуса с точки зрения традиционных мессианских ожиданий. Вопрос становится еще настоятельнее по мерее того, как повествование Второзахарии продолжается. Аргумент традиционалистов, будто Иисус сознательно и открыто действовал в соответствии с этим образом, чтобы заявить о своих мессианских претензиях, кажется мне последним вздохом буквалистской ментальности, бесконечно далекой от действительности.
По ходу действия выясняется, что главные враги «Царя-пастыря» у Второзахарии – торговцы овцами в храме. В главе 14 пророк заявляет, что в день Господа «не будет более ни одного Хананея [т. е. торговца] в доме Господа Саваофа» (Зах 14:21). Возникает ощущение, что драматическое повествование об очищении Иисусом храма от продавцов и покупателей жертвенных животных – не более, чем дальнейшее развитие мессианского символа, что помещает даже эти истории в одну категорию с рождением в Вифлееме и призванием двенадцати учеников.
Тщательное чтение Второзахарии выявляет еще больше отголосков. Торговцы овцами выплачивают «Царю-пастырю» тридцать сребреников, чтобы избавиться от него (11:12). Однако он не принимает эту плату, ибо не хочет больше быть их пастырем, и бросает серебряные монеты обратно в храмовую казну. Тогда все жители Иерусалима, говорит Захария, «воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне» (12:10).
Нет сомнения: когда эти отрывки читались в синагогах, у первых учеников Иисуса возникло убеждение, что на самом деле это сказано об Иисусе. При ретроспективном взгляде на события Пасхи основная сюжетная линия Второзахарии плавно перетекает от процессии в Вербное воскресенье к предательству и Распятию. Последняя глава (глава 14), которая регулярно читалась в синагогах как часть праздника Суккот, описывает ожидание, которое найдет свое воплощение в христианском описании Пятидесятницы (Деян 2). В этом пассаже Второзахария говорит о наступающем дне Господнем, когда произойдет апокалипсическое сражение, знаменующее собой конец времен. Все страны мира ополчатся против Иерусалима в своего рода версии Армагеддона. Город будет взят, его здания разграблены, его женщины изнасилованы. Половина жителей отправится в изгнание, другие будут отрезаны от города. Наконец, когда наступит самый мрачный момент и надежды уже не останется, «выступит Господь и ополчится против этих народов… И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицем Иерусалима» (14:3–4). Мы помним: триумфальная процессия Иисуса началась именно на Елеонской горе. Второзахария далее говорит, что Елеонская гора раздвоится из-за землетрясения, и лишь тогда явится Бог (14:4 и сл.). Вспомним, что, по словам Евангелий, когда Иисус умер, произошло своего рода духовное землетрясение. Матфей делает его буквальным (Мф 27:51), но вместо того, чтобы разделить Елеонскую гору, землетрясение разрывает завесу Храма, отделяющую Святое место, где могут собираться люди, от Святого Святых, места, где пребывал сам Бог. Землетрясение у Матфея также приводит к воскрешению мертвых (27:52). Но все это – лишь прелюдия к наступлению «дня Господня».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
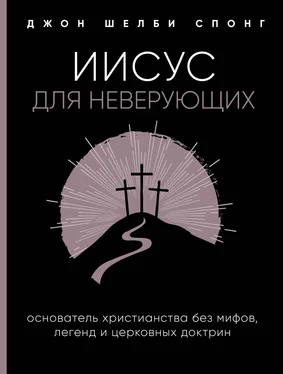
![Автор неизвестен Эпосы, мифы, легенды и сказания - Самые лучшие английские легенды [The Best English Legends]](/books/34729/avtor-neizvesten-eposy-mify-legendy-i-skazaniya-s-thumb.webp)