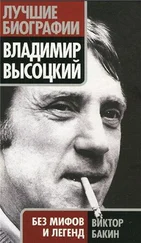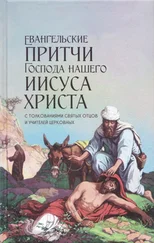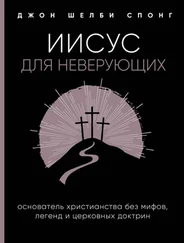Отметим два элемента в рассказе Марка, которые в последующее десятилетие были подхвачены Матфеем и Лукой и глубоко внедрились в христианское сознание. Во-первых, он соотнес время распятия Иисуса с иудейским праздником Пасхи. Это позволило ему сформировать рассказ о Распятии в соответствии с пасхальными образцами. Во-вторых, он попытался разъяснить утверждение Павла, что Иисус умер «по Писаниям», восполнив недостающие детали повествования о его смерти при помощи еврейской Библии. Вопросы, никогда не задаваемые традицией, однако совершенно необходимые для того, чтобы продвинуть вперед наше исследование, таковы: основан ли рассказ о Кресте на показаниях свидетелей – или же это не более чем литургическая драма, созданная уже позже и призванная не описать реальные события, а скорее помочь прихожанам понять, кем был Иисус и почему его смерть имела особое значение? Или, если поставить тот же вопрос немного по-другому, смелее: многие ли из подробностей Распятия Иисуса имели место быть? Не основаны ли детали его смерти, как и подробности его рождения, число и имена двенадцати учеников, истории о чудесах, – на традиции и толкованиях, а не на фактах? В рамках официального христианства эти вопросы по большей части не поднимались. Однако я ищу истину об Иисусе и не намерен их избегать.
Когда Марк взялся за перо, чтобы создать первое в христианской истории Евангелие, то допустил значительный перекос в сторону последних событий в жизни Иисуса. Он сосредоточен на Распятии. Только восемь стихов его Евангелия отражают Маркову версию пасхальных событий, а последним двадцати четырем часам жизни Иисуса отведено более ста. Кроме того, чуть более трети Евангелия посвящено последней неделе жизни Иисуса. Евангелие Марка иногда называют историей Распятия с длинным вступлением. Из текста Евангелия ясно, на что обратить внимание, если мы пытаемся понять, как Марк представлял себе смысл Иисуса. Главным фактом, главным свершением Иисуса была его смерть.
Затем в глаза бросается другое. Распятие не просто помещено в контекст Пасхи. Чуть дальше я покажу: проводится параллель между ним и исходом евреев из Египта, литургическим воспоминанием о котором и служит иудейская Пасха. Эти идеи проникают в наше сознание, и весь рассказ, на котором коренится история нашей веры, начинает восприниматься не как история, а скорее как интерпретация. Задумайтесь. И Распятие, и Исход были главными событиями в истории двух общин верующих – христиан и евреев. Оба события содержат идею избавления от рабства: Исход – от рабства в Египте, Распятие – от «рабства греху». Оба рассказа представляют избавление как переход от смерти к жизни – в случае с Исходом это символическое утопление в водах Красного моря, за которым следует спасение свыше, когда Бог разделил воды, чтобы открыть беглецам возможность новой жизни в земле Обетованной. В случае с Распятием это смерть на Кресте, за которой следует обещание новой жизни в вечной земле Обетованной – Царстве Божьем, первым провозвестником которого был Иисус. Оба повествования дают наказ будущим поколениям – помнить об этом основополагающем моменте и воспроизводить его литургически в общине верующих как историческое событие. В истории Исхода Бог говорит евреям: «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный праздник Господу во [все] роды ваши; как установление вечное празднуйте его» (Исх 12:14). Павел в своей версии Тайной Вечери приводит указание Иисуса воспроизводить его последнюю трапезу: «Это делайте в воспоминание о Мне» (1 Кор 11:24). Наконец, и история Исхода, и история Распятия сосредоточены на смерти того, кто назван «Агнцем Божьим». В истории Исхода это молодой ягненок без порока из стад евреев; в истории Страстей – молодой человек без греха, представитель своего народа, о котором Иоанн Креститель в Евангелии от Иоанна скажет: «Вот Агнец Божий» (1:36–37). В обоих случаях говорится, что пролитая кровь литургического агнца символически уничтожает власть смерти так, что агнец становится «носителем жизни». Разумеется, у нас могут возникнуть подозрения насчет историчности рассказа о Распятии, едва мы обнаружим, что четко очерченные идеи, описывающие смерть Иисуса, на самом деле основаны на более ранних литургических текстах, имеющих отношение к истории иудейской веры.
Наши подозрения усиливаются, когда мы смотрим на слова Марка в первом рассказе о смерти Иисуса и обнаруживаем, что он помещен в цикл из двадцати четырех часов, аккуратно поделенный на восемь равных частей. Это делает повествование о Распятии все меньше похожим на историю и все больше – на литургию. Еврейская Пасха обычно представляла собой трехчасовой ритуал, основанный на общей трапезе. Похоже, в христианской истории Распятия трехчасовая литургия евреев была расширена последователями Иисуса до двадцати четырех часов непрерывной службы, также сосредоточенной вокруг общей трапезы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
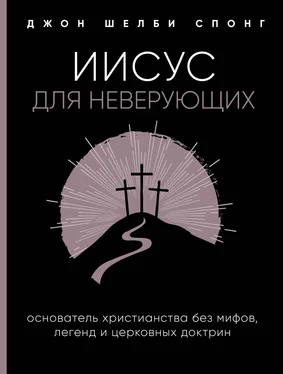
![Автор неизвестен Эпосы, мифы, легенды и сказания - Самые лучшие английские легенды [The Best English Legends]](/books/34729/avtor-neizvesten-eposy-mify-legendy-i-skazaniya-s-thumb.webp)