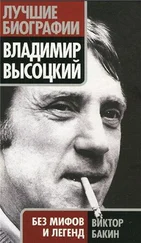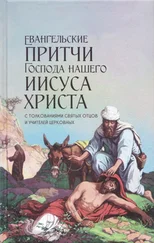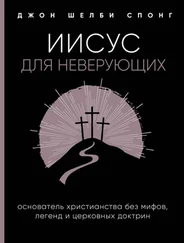Начнем с того, что в отличие от исцеления разных телесных болезней тема воскрешения мертвых, как кажется, не входила изначально в мессианские ожидания евреев. Возникает даже серьезный вопрос, означало ли воскрешение Иисуса его возвращение к жизни в этом мире, но я освещу его более подробно в главе, посвященной Пасхе. Пока же позвольте пролить свет на три рассказа о воскрешении мертвых, начиная с дочери начальника синагоги.
Три версии этой истории имеют достаточно общих черт, чтобы признать их описаниями одного и того же события, однако существенны и различия. Во-первых, все три синоптических Евангелия называют девочку, с которой произошло чудо, дочерью начальника синагоги. Во-вторых, каждая из версий делится на две части: ее прерывает рассказ о женщине, страдавшей хроническим кровотечением. В-третьих, во всех трех случаях Иисус говорит о девочке, что та не умерла, но спит (Мк 5:39, Мф 9:24, Лк 8:52).
Различия между тремя версиями несколько тоньше. Во-первых, Марк и Лука называют имя начальника синагоги – Иаир. Матфей его опускает. У Марка и Луки Иисус входит в комнату девочки в сопровождении Петра, Иакова и Иоанна. У Матфея – один. Матфей, в отличие от Марка и Луки, опускает ту часть истории, в которой Иисусу, еще не пришедшему к дому начальника синагоги, сообщают, что девочка уже умерла. Возможно, Матфей сильнее, чем другие евангелисты, хочет заострить внимание на предположении Иисуса о том, что девочка не умерла, но спит, и тем сбавить чувство изумления, которым пронизаны тексты Марка и Луки. Наш первый вывод: Матфей, судя по всему, не соглашается с остальными в вопросе чудесных элементов истории. Это само по себе необычно: выше мы отмечали, что в других частях своего Евангелия Матфей обычно склонен усиливать чудеса и даже добавлять к ним новые поразительные детали.
Воскрешал ли Иисус умерших? Услышьте же четко и ясно: «Нет!»
Попробуем найти прообразы данной истории в еврейском Священном Писании. Неудивительно: самое близкое «попадание в цель» обнаруживается в цикле рассказов о Елисее (4 Цар 4:18–37). И в истории Елисея, и в евангельском рассказе речь идет о воскрешении ребенка. В обоих случаях целители (Елисей и Иисус) находятся далеко и должны пройти к месту назначения. В обоих случаях еще до их прибытия встает вопрос, умер ли ребенок. В обеих историях между целителем и ребенком имеет место физический контакт: Иисус взял девочку за руку, Елисей «лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам», чтобы вернуть его к жизни. Это телесное прикосновение весьма знаменательно: согласно Торе, любой физический контакт с мертвым телом, даже для священника, делает человека ритуально нечистым на семь дней (Чис 19:11) и требует очистительных действий на третий день, чтобы нечистота не продлилась. В обеих историях целитель возвращает живого ребенка родителям. В обоих случаях «дух» ребенка восстановлен: в рассказе о Елисее это символизируется семикратным чиханием, а в Евангелии от Марка – замечанием, что девочка встала с постели, начала ходить и есть. Между двумя преданиями – очевидная связь. Авторы Евангелий используют историю Елисея для выражения собственных идей. А это означает, что данное повествование следует читать главным образом не как рассказ о чуде, но как попытку истолковать образ Иисуса сквозь призму Елисея, одного из героев еврейского прошлого.
Вторая аналогичная история, встречающаяся только у Луки – рассказ о том, как Иисус воскресил сына вдовы из селения Наин (Лк 7:11–15). Первое: он снова отсылает нас к теме, игравшей столь важную роль в предыдущей главе, а именно к тому, что чудеса исцеления воспринимались как знаки пришествия Мессии. Когда посланцы Иоанна Крестителя спросили Иисуса от его имени: «Ты ли Грядущий?», Иисус ответил ссылкой на мессианские знамения, которые, по словам Исаии, должны сопровождать пришествие Царства Божьего. Однако Иисус добавил к ним еще два: их не было в перечне Исаии, но впоследствии они стали характерной отличительной чертой христианской общины – «мертвые восстают» и «нищим благовествуется». Идея, что воскрешение мертвых служит одним из признаков грядущего Царства, не представляла проблемы для Матфея: он еще до того рассказал, как Иисус воскресил дочь начальника синагоги. А вот Лука приводит этот эпизод в своем Евангелии позже, и у него Иисус, отвечая Иоанну, вряд ли мог сослаться на воскрешение мертвых как на одно из мессианских знамений, отмечавших его жизнь, ведь до сих пор в тексте Луки о таком не было ни слова. Поэтому Лука приводит рассказ о воскрешении сына вдовы в Наине – и сразу переходит к эпизоду с Иоанном Крестителем.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
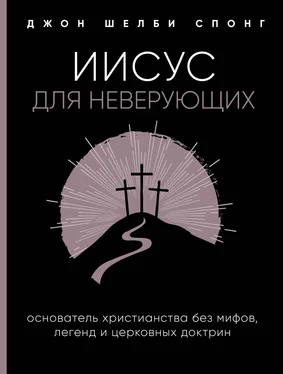
![Автор неизвестен Эпосы, мифы, легенды и сказания - Самые лучшие английские легенды [The Best English Legends]](/books/34729/avtor-neizvesten-eposy-mify-legendy-i-skazaniya-s-thumb.webp)