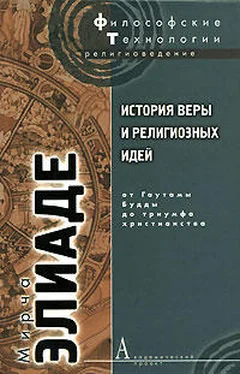На новом этапе развития религии гето-даков, о котором уведомляют нас Посидоний и Страбон, образ Залмоксиса ощутимо видоизменяется. Во-первых, происходит отождествление бога Залмоксиса и его верховного жреца, причем последний отныне обожествлен под тем же именем. К тому же, теперь не найти и следа от того мистериального культа, о котором писал Геродот. Культ Залмоксиса, по сути, превратился в почитание верховного жреца, который живет отшельником на вершине горы и состоит в главных советниках и приближенных царя; от «пифагорейства» здесь остался запрет на животную пищу. Мы не знаем, в какой степени эсхатологический и посвятительный характер «мистерий» Залмоксиса сохранился во времена Страбона. Однако античные авторы упоминают о некоторых отшельниках и особо набожных людях; возможно, эти "знатоки сакрального" и продолжили «мистериальную» традицию культа Залмоксиса. [360] Ср.: De Zalmoxis а Gengis-Кhan. р. 67 sq. Страбон подчеркивает еще одну деталь: Залмоксис (как и, позже, Декеней) так быстро добился успеха прежде всего благодаря своим познаниям в астрономии и искусстве прорицания. Иордан (VI в. н. э.), опираясь на более ранние источники, в экстравагантной манере описал интерес дакских жрецов к астрономии и естественным наукам ("Гетика", Х1, 69–71). За настойчивым утверждением о знании ими небесных тел может скрываться и верная информация. Ведь храмы в Сармизегетузе и Костештах, урано-солнечный символизм которых не вызывает сомнений, выполняли, видимо, функции календаря. См.: Hadrian Daicoviciu. Il Tempio — Calendario dacio di Sаrmizеgеtuz, III; idem. Dacii, р. 194 sq., 210 sq.
Глава ХХII
ОРФЕЙ, ПИФАГОР И НОВАЯ ЭСХАТОЛОГИЯ
§ 180. Легенды об Орфее: певец и "основоположник посвящений"
Вряд ли возможно писать об Орфее и орфизме, не вызывая раздражения у тех или иных ученых: у скептиков и «рационалистов», которые преуменьшают значение орфизма в истории греческих верований, или у почитателей и «энтузиастов», которые видят везде отголоски этого движения. [361] Даже сама оценка источников разбивается надвое: скептики подчеркивают скудость документов и их позднюю датировку; энтузиасты полагают, что не следует путать датировку документа с его возрастом; что, следовательно, при строгом критическом подходе к использованию всех правдоподобных свидетельств можно докопаться до сути того, что принято называть орфизмом. В этом противостоянии двух методологий чувствуются отголоски еще более сильного философского противостояния, возникшего в Греции в VI в. И ощутимого даже в наши дни. Орфей и орфизм — из того разряда вещей, которые сами по себе разжигают полемические страсти.
Анализ источников позволяет нам разделить реалии на две группы: 1) сказочные мифы и предания, связанные с Орфеем; 2) понятия, верования и обычаи, считающиеся «орфическими». Впервые он был упомянут в VI веке до н. э. поэтом Ивиком из Регии, который говорит "о славном имени Орфея". Для Пиндара Орфей, "играющий на лире, — отец мелодичных песен" ("Пифийские оды", IV, 177). Эсхил упоминает о нем как о том, "кто завораживает всю природу своими чарами" ("Агамемнон", 1830). Имя Орфея с определенностью названо на метопе IV в. из сокровищницы сикионцев в Дельфах: он изображен на борту судна с лирой в руках. Начиная с V в. иконография Орфея постоянно обогащается: он играет на лире в окружении птиц, диких зверей или в обществе верных фракийцев; он растерзан менадами; он — в Аиде рядом с другими божествами. пятым веком неизменно датируются первые упоминания о его схождении в ад за своей женой Эвридикой ("Alceste", 357 и сл.). Он терпит крах — либо по той причине, что слишком рано оборачивается, [362] Источники проанализированы в ки.: W.К.С. Guthrie. Orpheus and Greek Rеligiоn, р. 29 sq.; Ivan М. Linforth. Тhe Arts of Orpheus.
либо потому, что ему противостоят силы ада. [363] "Он не осмеливался умереть от любви, как Алкеста; он был намерен отправиться в Аид. Вот почему они (боги) покарали его и сделали так, чтобы он погиб от рук женщин (Платон. Пир, 179d).
Согласно легенде, Орфей живет во Фракии и принадлежит к догомеровскому поколению. Однако на керамике V в. он всегда изображен в греческой одежде: он завораживает своей игрой диких зверей или варваров. [364] Ср.: Guthrie. Orpheus, р. 40 sq., р. 66 et fig. 9, ср.: р. 6.
Именно во Фракии он нашел свою смерть. Согласно утерянной пьесе Эсхила «Bassarides», Орфей каждое утро поднимался на гору Пангеос, чтобы поклониться солнцу, отождествляемому с Аполлоном. Разгневавшись, Дионис натравил на него менад, которые разорвали кифариста, а останки его разбросали. [365] О. Kern. Orphicorum Fгаgmеnta, по 113, р. 33. Музы собрали воедино останки и захоронили их в Leibethria на горе Олимп.
Голова Орфея, брошенная в Гебр, продолжала петь и доплыла до Лесбоса, где была встречена с почестями и затем стала оракулом.
Читать дальше