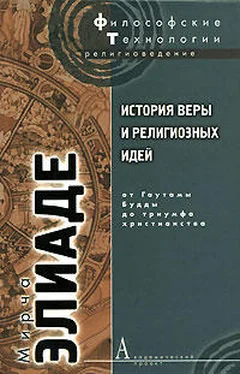К тому же один из самых таинственных и ярких эпизодов, рассказанных в Евангелии, свидетельствует о некотором разночтении в трактовке провозглашенного Иисусом "Царства". [662] Этот эпизод описывается во всех четырех Евангелиях (Марк и Матфей говорят об этом в двух местах); Мк 6:30–44; Мф 14:13–21, 15:32–39; Лк 9:10–17; Ин 6:1-15.
В тот день, после долгой проповеди, Иисус узнает, что 5000 человек, следовавших за ним по берегам Тивериадского озера, остались без еды. Тогда он просит их сесть на землю и чудесным образом умножает несколько хлебов и рыб, а потом они все совершают совместную трапезу. Речь идет о некоем архаическом ритуале, которым подтверждается или подкрепляется мистическая целостность группы. В данном случае совместная трапеза могла означать символическое предвосхищение эсхатона, так как Лука (9:11) уточняет, что именно тогда Иисус говорил им о Царстве Божьем. Но возбужденная новым чудом толпа не поняла всей глубины и смысла происходящего и увидела в Иисусе страстно ожидаемого «царя-пророка», который принесет Израилю избавление. "Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять Его и сделать Царем" (Ин 6:15), распустил собравшихся, вошел с учениками в лодку и переплыл Тивериадское озеро.
Эту «неувязку» можно было бы счесть неудавшейся попыткой восстания. Так или иначе, многие оставили Иисуса. В Евангелии от Иоанна сказано: «отошли» (6:66–67), с ним остались лишь апостолы. Именно с ними весной 30 (или 33 г.) Иисус решает отпраздновать в Иерусалиме Пасху. Много спорили — спорят и по сей день — какова же была подлинная задача этого предприятия? Скорее всего, Иисус хотел возвестить и проповедать Благую Весть в религиозном центре Израиля, чтобы добиться от народа окончательного решения: либо так, либо иначе. [663] Dodd. Ор. cit., р. 139 sq.; R.M Grant. Augustus to Соnstantinе, р. 43.
Когда он был уже близ Иерусалима, люди "думали, что скоро должно открыться Царствие Божие" (Лк 19:11). Иисус вошел в Град как царь-мессия (Мк 11:9-10), выгнал из Храма торгующих и покупающих и учил народ (11:15 и сл.) На другой день он снова вошел в Храм и рассказал притчу о злых виноградарях, которые, убив слуг, посланных хозяином, затем схватят и убьют его сына."…Что же сделает хозяин виноградника? — заключает Иисус. — Придет и предаст смерти виноградарей, и отдаст виноградник другим" (12:9).
Для священников и книжников значение этой притчи было совершенно однозначно: пророки подвергались гонениям, и последний из посланных, Иоанн Креститель, был убит. Согласно учению Иисуса, Израиль по-прежнему был виноградником Господа, однако его религиозная элита обречена; у нового Израиля будут иные духовные лидеры. [664] Ср.: Dodd , р. 150.
Иисус давал понять, что он-то и унаследует виноградник, он, "сын любезный" хозяина — мессианская проповедь, которая могла вызвать кровавые репрессии завоевателей. Первосвященник Кайафа об этом скажет так: "лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели весь народ погиб" (Ин 11:50). Медлить было нельзя, надо было действовать, не вызывая подозрений в стане приверженцев Иисуса. Взять его под стражу следовало тайно и в ночи. В канун Пасхи Иисус совершил последнюю трапезу со своими учениками. Эта последняя агапа станет центром христианского обряда — Евхаристии, к смыслу которой мы обратимся ниже (§ 220).
"И, воспев, пошли на гору Елеонскую" (Мф 26:30). Из этой, полной волнующих событий ночи, предание, сохранило память о двух эпизодах, и поныне тревожащих христианскую совесть. Иисус предсказывает Петру, что "прежде, нежели пропоет петух", тот трижды отречется от него (Мф 14:26–31). А ведь Иисус видел в Петре своего самого верного ученика, того, кому надлежало поддерживать дух общины верующих: отречение его, несомненно, подтверждало слабость человеческого, однако вовсе не отменяло достоинство и харизматические добродетели апостола. Смысл его тяжкого проступка ясен: в икономии спасения не важны ни людские грехи, ни людские добродетели; главное покаяться и уповать. Без этого «прецедента» с Петром было бы крайне затруднительно обосновать большую часть христианской истории; его отречение и последующее покаяние (Мф 26:74) в определенном смысле стали образцом для всей христианской жизни.
Не менее показательна следующая сцена — "на месте, называемом Гефсиманией". Иисус идет туда с Петром и еще двумя учениками и говорит им: "Душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною" (Мф 26:38). "И, отойдя немного, пал на лицо Свое, молился и говорил: Отче Мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия; Впрочем, не как Я хочу, но как Ты" (26:39). Но, возвратившись, видит Он своих учеников спящими и говорит Петру: "Так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною?" (26:40). "Бодрствуйте и молитесь", — вновь учит он их. Но, увы! Придя, "находит их опять же спящими, ибо У них глаза отяжелели" (26:43; ср. Мк 14:32–42; Лк 22:40–46). Еще по истории Гильгамеша (§ 23) известно, что победить сон, остаться бдящим — это одно из самых тяжелых инициатических испытаний, ибо смысл его заключается в трансмутации профанного, в достижении «бессмертия». В Гефсиманском саду "инициатическое бдение", даже ограниченное всего несколькими часами, оказалось выше человеческих сил. И поражение это также станет назиданием для большинства христиан.
Читать дальше