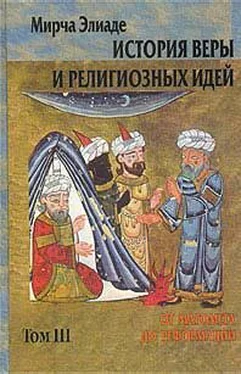§ 269. Религиозное значение романского искусства и куртуазной любви
Время Крестовых походов было также эпохой грандиозных духовных свершений. Это апогей романского искусства и взлет готического, расцвет любовной и религиозной поэзии, романов о короле Артуре и Тристане и Изольде; это триумф схоластики и мистики, основание прославленных университетов и новых монашеских орденов, это эра бродячих проповедников. Но тогда же сверх всякой меры расплодились аскетические и эсхатологические движения, большей частью периферийные по отношению к ортодоксии, а подчас и откровенно еретические.
Мы не можем рассматривать эти концепции столь подробно, как они того заслуживают. Напомним лишь, что в этот сложный период переломов и преобразований, которые коренным образом изменили духовный облик Запада, жили и творили величайшие богословы и мистики, от святого Бернарда (1090–1153) до Мейстера Экхарта (1260–1327), как и наиболее влиятельные из философов, от Ансельма Кентерберийского (1033–1109) до Фомы Аквинского (1223–1274). Вспомним также основание картезианского (1084) и цистерцианского (1098 г., в Сито, близ Дижона) орденов и ордена регулярных каноников (Премонтре, 1120 г.). Вместе с орденами, учрежденными св. Домиником и св. Франциском Ассизским 0 182-1221), эти монашеские организации сыграют решающую роль в религиозной и интеллектуальной жизни четырех последующих веков.
Попробуем кратко обрисовать символическую схему мироздания, присущую сознанию средневекового общества, каким оно было после кризиса, связанного с концом тысячелетия. Вначале необходимо уточнить, что с наступлением XI в. стремится к утверждению новое общественное устройство. В 1027 г., обращаясь к королю, епископ Адальберт Лаонский напоминает ему, что "общество верных составляет одно тело; у государства же их три… Дом Божий, который мы сознаем единым, разделен, таким образом, на три части: одни молятся, другие сражаются, третьи работают. Три сопряженные части не терпят разделения… Потому трехчастный организм, на самом деле, един; так торжествует Божественный закон, и вселенная наслаждается миром". [245] См. тексты в: Duby. L'An Mil, pp. 71–75. К XI в. «эта схема представляла реформированное общество: в нем было духовенство, структурированное по монастырской модели и opus Dei, военная аристократия и экономическая элита — владевшие землей крестьяне, своим трудом завоевавшие право на идеологическое возвышение» (Jacques Le Goff. Histoire des religions, vol. 2, p. 817. См.: idem. Pour un autre Moyen Âge, pp. 80–90; см. Также: G. Duby. Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme, p. 62 sq. et passim.
Эта схема напоминает трехчастное разделение индоевропейского общества, блестяще изученное Жоржем Дюмезилем (ср. § 63). [246] См. также специальное исследование: Жорж Дюби. Трехчастная модель или представления средневекового общества о самом себе. М., 2000.
В первую очередь, нас интересует религиозный, а вернее, христианский символизм, который проглядывает сквозь данную общественную классификацию. Проданные реалии причастны священному. Такой подход характерен для всех традиционных культур. Известный пример тому — религиозная архитектура, которую с самого начала питало проданное, или строение христианской базилики (ср. символизм византийских храмов, § 257). Романское искусство разделяет и развивает этот символизм. Собор — это не что иное, как imago mundi. Космологический символизм одновременно организует мир и освящает его. "Мироздание рассматривается в перспективе сакрального, идет ли речь о камне или о цветке, о животном или о человеке". [247] M.M. Davy. Initiation à la symbolique romane, p. 19.
Действительно, в Космосе можно обнаружить все формы бытия и все аспекты человеческой жизни и деятельности, так же, как и события Священной истории, ангелов, чудовищ и демонов. В орнаментации собора заключен богатейший репертуар космической символики (солнце, знаки зодиака, лошадь, древо жизни и т. д.), наряду с библейскими и мифическими персонажами (дьявол, драконы, феникс, кентавры и т. д.) или дидактическими сюжетами (труды каждого месяца и т. д.). [248] Ср.: M.M. Davy. Ор. cit., p. 209 sq.
В этом многообразии можно выделить два противопоставленных друг другу мира: с одной стороны, существа безобразные, чудовищные, демонические, [249] Они вызывали раздражение св. Бернарда: «Что означают в наших монастырских двориках эти смехотворные монстры, эта ужасающая красота и прекрасное уродство?» Apologia, XII, 29, цит. по: Davy, p. 210.
с другой — Царь-Христос во славе, Церковь (в образе женщины) и Пресвятая Дева, которая, начиная с XII в., окружена особым народным почитанием. Противостояние этих миров вполне реально, и смысл его очевиден. Однако гений романского искусства как раз и заключается в необузданности творческого воображения и в стремлении собрать в единое и гармоничное целое модальности существования в священном, профаном и воображаемом мирах.
Читать дальше