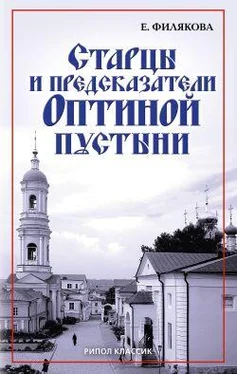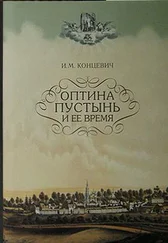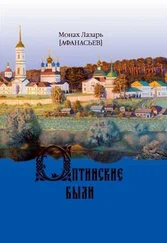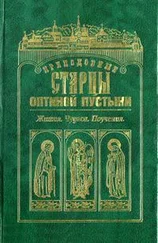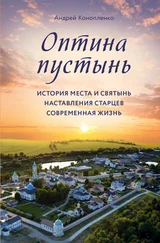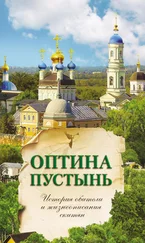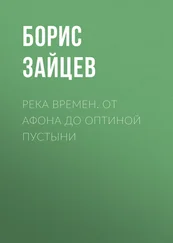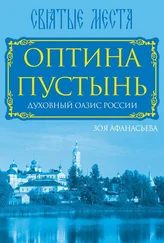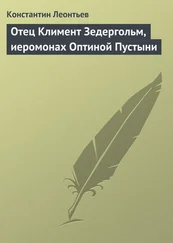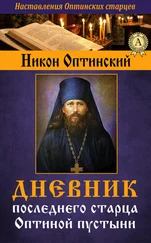Тяжелое, порой безысходное существование продолжалось до конца XVIII века. Тогда митрополит Московский и Калужский Платон (Левшин) посетил проездом Оптину пустынь и был очарован красотой природы, окружавшей монастырь. После чего были приняты меры для восстановления в Оптиной общежительской жизни. Настоятелем Оптиной пустыни митрополит назначил опытного иеромонаха Песношского монастыря Авраамия.
Настоятель Авраамий вошел в историю Оптиной пустыни как основоположник будущего процветания обители. За двадцать лет он капитально обустроил монастырь. Появились каменные строения вместо ветхих деревянных. Справа от Введенского собора выросли новый каменный собор во имя Казанской Божьей Матери и стройная трехъярусная колокольня с примыкающими к ней флигелями для монашеских келий. Была выстроена больница с храмом при ней, разведен фруктовый сад. Но, пожалуй, главное – ведомая опытным рулевым, Оптина встала на путь духовного движения за возрождение подлинного православного предания, у истоков которого стоял знаменитый Паисий Величковский.
«Житие» Паисия Величковского
Великий старец, восстановивший непрерывность духовной преемственности христианской традиции, возродивший представление о монашеском пути как о непрерывном подвиге самоотречения и жертвенной любви не только к Богу, но и к людям, созданным по его «образу и подобию», заслуживает отдельного рассказа в этой книге.
Будущий старец родился 21 декабря 1722 года в семье потомственных священнослужителей. Его назвали Петром в честь митрополита Киевского Петра. Он рано начал готовиться к монастырской жизни, с юных лет установив для себя три правила: ближнего своего не осуждать, хотя бы ты собственными глазами видел его согрешающим; ни к кому не питать ненависти; от всего сердца прощать обиды. И долгие годы искал духовного наставника. Безрезультатно.
В те годы для жаждущих духовного опыта все дороги вели на Афон, который на протяжении многих веков оставался высшей школой монашества, хранителем православия и чистой веры. Здесь начинал свой монашеский подвиг основатель монашества на Руси преподобный Антоний Печерский. Здесь бережно хранилась молитвенная традиция. Но общий кризис православия в век Просвещения, приведший к обмирщению и глубокому упадку монашества, полузабывшего свои истоки и цели, коснулся и Афона. Многое из богатой традиции было утрачено. Но остались библиотеки с неисчерпаемыми духовными богатствами, накопленными предыдущими поколениями. К ним и обратился молодой подвижник, смирившийся со своим одиночеством. В древних рукописях, славянских и греческих, в святоотеческих преданиях он отыскал оборванную цепь духовной традиции, уходящей вглубь христианских веков, и проследил, изучил ее как книжник. «Оставшись, как овца без пастыря, я начал скитаться там и сям, стремясь найти своей душе пользу, покой и вразумление, и не находил. Не отыскав желаемого душе моей руководства, я поселился на некоторое время в уединенной келии и, положившись на волю Божию, стал читать понемногу отеческие книги. Читая эти книги, я как в зеркале увидел, с чего именно мне надлежало начинать мое бедное монашество, я понял, какой великой благодати Божией я был лишен…»
На его счастье в 1750 году Афон посетил молдавский схимонах Василий, от которого будущий старец услышал чеканное определение монашеской жизни: «Все монашеское жительство разделяется на три вида: первый – общество; второй – именуемый царским, или средним, путем. Когда, поселившись вдвоем или втроем, имеют общее имущество, общую пищу и одежду, общий труд и рукоделие, общую заботу о средствах к существованию и, отвергая во всем свою волю, повинуются друг другу в страхе Божием и любви. Третий вид – уединенное отшельничество, пригодное только для совершенных и святых мужей». Схимонах Василий постриг подвижника в мантию с именем Паисий и отсоветовал ему следовать путем одиночества.
С этого момента, неожиданно для Паисия, постепенно вокруг него возникает небольшая община, и он получает возможность применить на практике свой книжный опыт. Тогда-то и выяснилось, что ученый книжник обладает недюжинной практичностью. Все знания, почерпнутые из святоотеческих книг, он сумел претворить в жизнь, создавая монастыри, которые стали живым звеном, восстанавливающим цепь духовной преемственности.
Паисий Величковский провел на Афоне семнадцать лет, создав Ильинский скит. Когда число братьев скита превысило пятьдесят, он сделал попытку переселиться в более обширную обитель, но турецкие власти запросили за это слишком большую плату. «Поэтому, – писал Паисий, – положившись на всемогущего Бога, на всяком месте своего владычества прославляемого, мы и переселились все вместе из святой горы в православную молдовлахийскую землю». Здесь, в монастыре Драгомирна, ему удалось создать тот же особый настрой, который он сам определял как «одна душа, одно сердце». Здесь началась его переводческая деятельность. С Афона ему удалось принести творения святых отцов на древнегреческом, и ночи напролет он трудился, исправляя славянские переводы. Он понимал, что живое слово необходимо не только монахам, но и мирянам.
Читать дальше