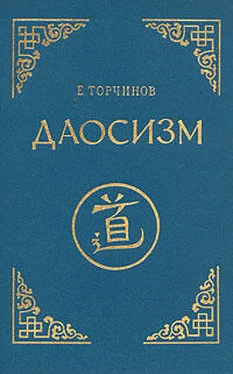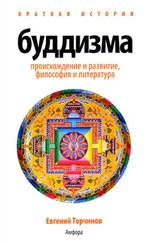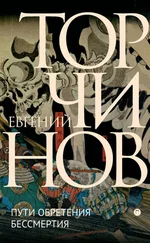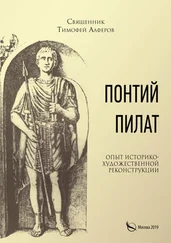Но в принципе труды А. Масперо являются основополагающими для современной даологии.
Точка зрения А. Масперо получила серьезную поддержку на международной даологической конференции в Белладжио. Ее развили на конференции Дж. Нидэм, К. М. Скиппер и Н. Сивин. Они еще раз подчеркнули, что Лао-цзы и Чжуан-цзы выдвигали те же положения, что и поздние даосы: так, например, позднедаосская концепция «сяня» – «бессмертного» (этимологически – пернатое существо, вознесшееся ввысь, а также танцующий священнослужитель; возможно и глагольное употребление этого слова – возноситься вверх, иероглиф, состоящий из графем «человек» и «гора», – позднейшее написание) непосредственно связана с «истинным человеком» (чжэнь жэнь) Чжуан-цзы. К. М. Скиппер настойчиво отрицал, что «поздний» даосизм был действительно «поздним».
Согласно его концепции, алхимия, гигиена, сношения со сверхъестественным, литургика и теократические государства не появились из ничего, но возникли из верований и обрядов, существовавших во время написания «Дао-дэ цзина» и «Чжуан-цзы». «Если читать “Чжуан-цзы” глазами даосского адепта, – отметил он, – то на каждой странице можно найти указание на технику транса» (Уэлч X. X., 1969–1970, с. 109).
К. М. Скиппер, несмотря на выделение им «шэнь цзяо» как недаосских верований, сделал сильнейший акцент на тезисе о единстве даосизма. Объединяющим моментом, по его мнению, является учение о «иерогамии» сил инь-ян Неба и Земли, дающих начало «бессмертному зародышу». Он также процитировал фразу из ритуала даосского священнослужителя гао-гуна («высокий достопочтенный»): «Даосские обряды везде и всегда в основе своей одинаковы, они подобны природе связи северных и южных звезд». К. М. Скиппер пояснил, что это верно для всякого даосизма, будь то мистицизм отшельника, физиологическая практика взыскующего бессмертие или литургическая традиция народа (Уэлч X. X., 1969–1970, с. 127–128).
Весьма интересное обоснование общности раннедаосских и позднедаосских концепций дал и Дж. Нидэм. Он указал, что поиски бессмертия отнюдь не противоречат таким фундаментальным даосским понятиям, как «у вэй» (недеяние) и «цзы жань» (самоестественность). Если «у вэй» означает непротиводействие природе, то ведь и поиски бессмертия можно рассматривать как использование самой природы и природных процессов для достижения совершенства. Например, даосский алхимик стремится использовать «естественные» (по его мнению) качества минералов и «естественные» тенденцииих «развития», взаимодействия между ними и т. д. Таким образом, даос использует «естественную закономерность», «плывет по течению природы в нужном ему направлении».
Как уже отмечалось выше, многие даосы к тому же занимались одновременно и философией и оккультными практиками. Так, Чжан Чжань (320–400) был издателем книги «Ле-цзы» (и, вероятно, автором части ее) и вместе с тем – автором сочинения по «внутренней» алхимии и сексуальной гигиене (Нидэм Дж., 1974, с. 83–84; см. также Жирардо Н. Ж., 1972, с. 319–337).
В этой связи любопытны приводимые Дж. Нидэмом (Нидэм Дж., 1983, с. 292) даосская пословица и цитата из «Гуань-цзы»: 1) Моя судьба заключена во мне, а не в Небе (во мин цзай во, бу цзай юй тянь); 2) Совершенномудрый благодаря тому, что следует [за вещами], может овладеть ими (шэн жэнь, инь чжи, гу нэн чжан чжи).
Отсюда следует, что довольно распространенное представление о том, что даосские классики исходили из аксиологического приоритета «не-бытия», отсутствия (у), а поздние даосы – «бытия», «наличия» (ю), является не более чем недоразумением. Во-первых, у никогда не обозначало небытия как смерти, а скорее воспринималось как некое потенциальное бытие, предшествующее оформленному наличному бытию и порождающее его. Следовательно, у выступает не как отрицание, а как источник жизни, а оппозиция «у – ю» имеет смысл оппозиции «неоформившееся – оформившееся» (Григорьева Т. П., 1979, с. 69; подробное и исчерпывающее обсуждение содержания категорий «у – ю» см.: Кобзев А. И., 1983, I, с. 99–107).
Если бы ранние даосы противопоставляли «у» как небытие и смерть долголетию и вечной жизни, отдавая предпочтение первому (т. е. не просто бы говорили о неизбежности смерти, а считали ее аксиологический статус выше статуса жизни), то они заслуживали бы названия онтологических самоубийц, что в данном случае явно абсурдно.
В связи с этим можно заметить, что цель многих даосских медитаций – возвращение в «материнскую утробу» дао-отсутствия (у), чтобы обрести новое рождение в качестве бессмертного и совершенного человека. Из бездны «хаотического и смутного» (хуанху) творится «свет просветления» (мин) и новая жизнь (Чжэнь Э. М., 1974, с. 52–53; Торчинов Е. А., 1982, IV, с. 104), и в этом смысле «небытие» – отсутствие так же ставится выше «бытия» поздними даосами, как и ранними.
Читать дальше