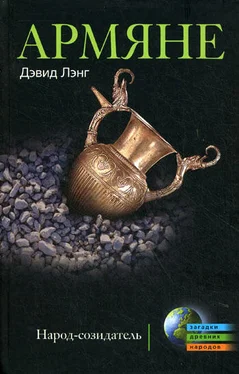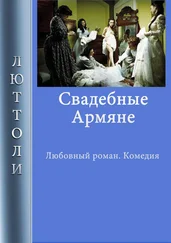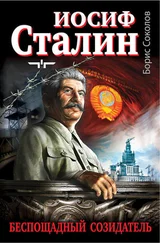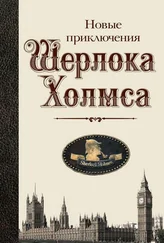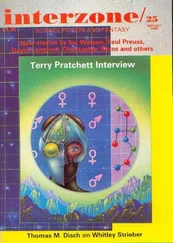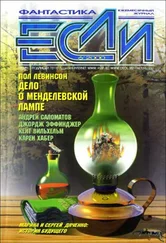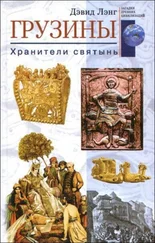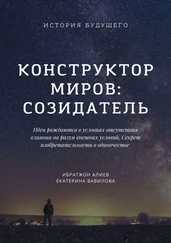Возрождение иранских обычаев и верований при Тиридате I помогло подорвать тенденцию «романизации», столь явно заметную в Армении и Парфии предыдущего столетия. После эллинистической и романистической фаз армянской истории, растянувшихся от правления династии Ервантидов до начала правления Аршакидов, то есть до I века нашей эры, армянское общество вошло в фазу «иранизма». Армянская знать стала подражать иранским образцам поведения, точно так же, как армянские цари династии Аршакидов брали пример государственной организации с Парфянской империи. Вместо автократического централизма, характерного для Римской империи, армяне приняли более гибкую систему феодальной зависимости, характерную для структуры иранского государства времен Ахеменидов. Вместо того чтобы, подобно римским императорам, опираться на огромную армию бюрократов, сборщиков налогов и губернаторов провинций, армянские цари стремились полагаться на преданность крупных знатных родов, над которыми они время от времени ставили своих наместников. Наместники должны были присматривать за этими благородными вассалами и укреплять их нестойкую верность. Важнейшие государственные должности стали для некоторых знатных семейств наследственными. Так, Багратиды, заявлявшие, что ведут происхождение от израильских царей Давида и Соломона, получили от царя Армении Валарша I (117–140 гг.) пост начальника царской кавалерии, вкупе с постом «тагадира», наследственного коронанта армянских царей. Другие знатные фамилии поделили остальные главные государственные должности, а именно сенешаля, великого коннетабля и высшего камергера двора. Согласно Мовсесу Хоренаци, царь Валарш назначил себе двух секретарей, один из которых должен был напоминать ему об исполнении дел благотворительных и опекунских, другой – о наказании провинившихся и мести. Патронажному секретарю также вменялось в обязанность удерживать царя от излишней суровости и напоминать, когда возможно, о милосердии и великодушии.
При Тиридате I, скончавшемся около 100 года, Армения оставалась более или менее покорным буферным государством. Нерон и его непосредственные преемники выказывали здравый смысл и умеренность, стремясь поддерживать ее, в качестве нейтрального бастиона против набегов кочевников из северокавказских степей и против парфян. Резкая смена политики произошла при Траяне. Обуреваемый, по мнению Дион Кассия, «жаждой славы», Траян в 113 году пошел походом на Парфию, а по пути сверг и убил армянского царя Партамасира. Эта сцена представлена на римских бронзовых монетах, а также на рельефе триумфальной арки Константина в Риме. Траян вторгся в Парфию и взял Ктесифон. Армения три года стонала под игом римского легата. После смерти Траяна в 117 году более благоразумный Адриан вернул восточные римские территории их старым правителям и вассальным царям. На троне Армении оказался другой монарх династии Аршакидов (Аршакуни), Валарш I, строитель Вагаршапата (нынешнего Эчмиадзина).
Нет смысла подробно перечислять тщетные войны с Арменией и Парфией, которые предпринимали такие императоры, как Марк Аврелий, Септимий Север и Каракалла. Они привели к двум последующим захватам и разграблениям Ктесифона (в 165-м и 198 гг.), а также неисчислимому ущербу, нанесенному экономике Армении и других восточных римских провинций.
Римские императоры никак не могли взять в толк, что создание некоего железного занавеса против Парфии и неугасающее стремление установить прямое римское правление в Армении ослабляет сам Рим.
Ассирийская, Неовавилонская, Персидская и Селевкидская империи последовательно, каждая в свой черед, поддерживали политическую целостность «Благодатного полумесяца» с VIII по II век до нашей эры. Так что финикийские купцы могли свободно торговать и со странами бассейна Инда, и с Атлантическим побережьем Европы и Северной Африки. Решение римлян раздробить империю Селевкидов и поддерживать ее в разобщенном виде стало неблагоприятным не только для Рима и стран «Благодатного полумесяца», но в первую очередь для буферных государств, вроде Армении. Это решение продержало «Благодатный полумесяц» политически и экономически разъединенным на протяжении семи веков, пока арабы наконец-то не сплотили его вновь. Такая политика, по сути дела, приговорила Рим, а потом и Византию удерживать на востоке очень непростую границу, пролегавшую слишком близко к побережью Средиземного моря. Да и нижняя Месопотамия при этом оказалась с римской точки зрения «не на той стороне». Большой экономический ущерб римлянам нанесло то, что Персидский залив и морскую торговлю с Индией контролировали иранцы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу