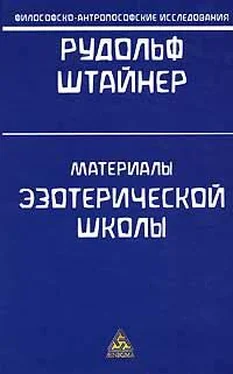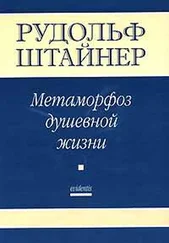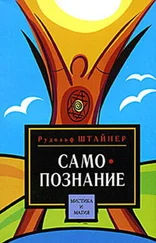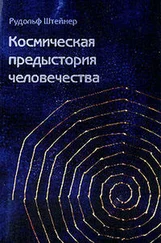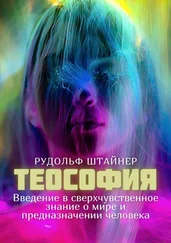Итак, мы видим, что мы находимся в непрерывной связи с умершими. Мы имеем своего рода «вопросы и ответы»: взаимодействие с умершими. Для того, чтобы сделать себя особенно способными к вопросам, т. е., чтобы до известной степени приблизиться к умершим, надо иметь в виду следующее: обыкновенные абстрактные мысли, т. е. мысли, почерпнутые из материалистической жизни, мало приближают нас к умершим. Умершие даже страдают от наших развлечений в чисто материальной жизни, если они как-либо связаны с нами. Если же мы, напротив, будем удерживать и развивать то, что в области чувства и воли нас приближает к умершим, то мы этим хорошо подготовляемся к тому, чтобы ставить умершим соответствующие вопросы, хорошо подготовляемся к тому, чтобы установить связь с умершими в момент засыпания. Эта связь существует преимущественно благодаря тому, что данные умершие были с нами связаны при жизни. Связь при жизни обосновывает то, что следует затем для связи после смерти. Есть, конечно, разница, говорю ли я с кем-нибудь равнодушно, или же с участием, говорю ли я с ним так, как один человек говорит с другим, когда он любит этого другого, или же я говорю с ним равнодушно. Большая разница, говорю ли и с кем-нибудь так, как за файф-о-клоком, или же так, что меня особенно интересует то, что я могу услышать от другого. Если мы в жизни создаем более интимные отношения от одной души к другой, такие отношения, которые основаны на чувствах и импульсах воли, и если мы после того, как какая-нибудь душа прошла сквозь врата смерти, сумеем сохранить преимущественно такие отношения в области чувств, такой интерес к душе, такое «любопытство» к ответам, которые она даст, или же, если мы, может быть сами испытываем побуждение быть чем-нибудь для нее, если мы умеем жить в подобных воспоминаниях о душе, воспоминаниях, идущих к душе не из содержания жизни представлений, не из отношений одной души к другой, тогда мы бываем особенно пригодны к тому, чтобы в момент засыпания подойти к душе с вопросом.
Напротив, мы становимся особенно пригодными к тому, чтобы получить ответы, вести в момент пробуждения, если мы способны и склонны к тому, чтобы познавательно вникать в существо данного умершего при жизни.
Подумаете только, как мы — в особенности в настоящее время — проходим мимо людей, в действительности не узнавая их ближе. Что, собственно, знают в настоящее время люди друг о друге? Возьмем этот, несколько удивительный пример: существуют браки, длящиеся десятки лет. Причем оба супруга совершенно не знают друг друга. Это бывает. Однако, вполне возможно, что это зависит не от таланта, это зависит от любви, с пониманием вникнуть в существо другого и таким образом (путем) нести в себе действительный мир представлений другого. Это особенно хорошо подготовляет к тому, чтобы в момент пробуждения получать ответы от самого умершего. Поэтому мы также бываем более предрасположены к тому, чтобы при пробуждении получать ответы от ребенка, от молодого умершего, так как мы молодых узнаем ближе, чем тех, которые ушли более во внутрь себя и состарились.
Таким образом люди могут содействовать правильному установлению отношений между живыми и умершими. В сущности, вся наша жизнь пронизана этими отношениями. Как души, мы погружены в сферу, в которой находятся и умершие. Степень нашей набожности очень сильно связана с воздействием на нас рано умерших и если бы рано умершие не посылали свое воздействие в жизнь, то вероятно, вообще не было бы набожности. Поэтому по отношению к рано умершим душам лучше всего сохранять более общие воспоминания. Торжества в память умерших детьми или в юном возрасте должны были бы всегда иметь в себе нечто обрядовое или более общее. На смерть рано умерших следовало бы иметь особый обряд. Католическая церковь, у которой все рассчитано на юношескую, на детскую жизнь, которая вообще предпочитала бы иметь дело только с детьми, управлять детскими душами, поэтому мало применять обычай произносить «индивидуальные» речи о детской жизни, окончившейся смертью. Это особенно благотворно. Наша печаль о детях иная, чем наша печаль о пожилых людях. Печаль о детях мне бы больше всего хотелось назвать «печалью сочувствия», ибо печаль, которую мы испытываем об умершем у нас ребенке, является, собственно, большей частью размышлением нашей собственной души о существе ребенка, который остался вблизи нас. Мы переживаем жизнь ребенка и существо ребенка сопереживает печаль. Это печаль сочувствия.
Читать дальше