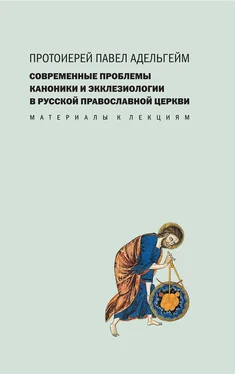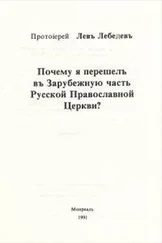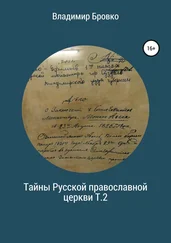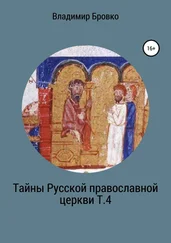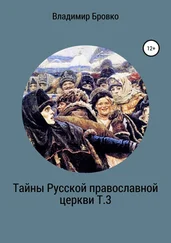Защищая состав Собора, ограниченный епископатом, профессор находит канонический аргумент: «все без исключения каноны, в которых речь идет о составе соборов, неизменно говорят о епископах как об их полноправных членах…» [40] Ципин Владислав, прот. К вопросу о соборности и соборах. С. 85.
. Ретроспективный аргумент, проецирующий на древние соборы наше секулярное сознание.
Ни в одном из перечисленных канонов не «идет речь о составе соборов», не указывается статус «полноправных членов», участников, наблюдателей, экспертов и проч. Каноны собирают епископов, понуждают «приходить благовременно», укоряют за «небрежение», определяют периодичность и место собраний, но не «ведут речь о составе соборов». Из нашего «далека» мы различаем собрания по статусу: вселенские, поместные и архиерейские; епархиальные и приходские; отличаем синоды святейшие от священных, от церковного суда и проч. В те времена не было жесткой дифференциации. Они могли иметь разный состав, но единую екклезиологическую природу и общий статус – «собор».
Профессор причисляет автора книги «Догмат о Церкви» к «сторонникам равноправного с епископами участия клира и мирян в Поместном Соборе», напрасно приписывая автору желание устроить церковное управление так, чтобы его участниками были представители клириков и мирян, наделенные властными полномочиями.
Автор возражает:
Клирики и миряне не обязательно должны заседать или участвовать в принятии решений. <���…> Решения всегда остаются за епископами. Своим участием на Соборе клир и миряне выражают «Аминь» церковной полноты. Эту полноту Символ Веры именует соборностью Церкви. Решения Архиерейского собора выражают только единство Церкви. Решения Поместного Собора выражают оба симметричных признака святой Церкви: единство и соборность. Рецепция соборной полноты сообщает решениям Поместного Собора высший канонический авторитет [41] Адельгейм Павел, прот. Догмат о церкви в канонах и практике. Псков: б.и., 2002. С. 104–105.
.
Выбор между благодатью, правом и волей епископа выражает возможность трех разных порядков жизни. Один имеет церковное обоснование. Два других представляют воцерковление безблагодатных начал, которые не обоснованы в Церкви.
1. Крещение и хиротония сообщают неизгладимую благодать, пребывающую в нас и действующую в Церкви: «Вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел» (1 Пет 2:9). Этот порядок церковной жизни не вписывается в доклад проф. Цыпина, словно его речь не о церкви, а об одной из бюрократических систем, организующих социальный быт.
2. Право, определенное канонами и Уставом, имеет общепризнанное значение. Признавая в церкви «властные учреждения»; «архиереев, имеющих полноту юрисдикции в епархиях», как «носителей власти», профессор допускает участие мирян в церковной жизни лишь по благословению епископа. Рассуждая о правах, профессор делит народ Божий на «сословие архиереев», имеющих право и власть и «сословие белого духовенства и мирян, неуместно предъявляющих мнимые права» и подтверждает свою позицию ссылкой на апостола Павла: «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова» (Еф 4:7). «Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же» (1 Кор 12:4–5). Харизматические дары нельзя подменять церковным правом.
Церковь имеет теократическое устройство. Разделение общества на «имеющих права» и «несущих обязанности» характеризует систему с авторитарным устройством. Если епископы имеют права, а все прочие – обязанности, значит церковь изменила свою природу и отказалась жить по Вселенским канонам. Отказывая в правах мирянам и клирикам, профессор выводит их за пределы правового поля. В канонические отношения входит двойной стандарт, исключающий основной принцип права: «единое правовое пространство, в котором каждому предоставлена свобода, ограниченная нормой» [42] Адельгейм Павел, прот. Догмат о церкви в канонах и практике. С. 74.
. Это значит, что в церкви нет права, нет суда, и разговор о них не имеет смысла.
Воля местного епископа, преподаваемая в частном благословении, может выражать любовь Божию. Тогда она имеет благодатное основание и осуществляет первый из трех порядков церковной жизни. Воля местного епископа может иметь в основании церковное право. Протопр. Николай Афанасьев называет его оцерковленным эмпирическим фактором, приобретающим в Церкви значение церковных начал [43] См.: Афанасьев Николай, протопр. Церковь Духа Святого. Paris: YMCA-PRESS, 1971. С. 282.
. Его влияние естественно, хотя искажает благодатную природу Церкви и ее институции. Это видно на эволюции понятия «собор». Воля епископа может быть авторитарной и выражать обычные человеческие страсти, одинаково разрушительные для Церкви, клириков, мирян и самого епископа.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу