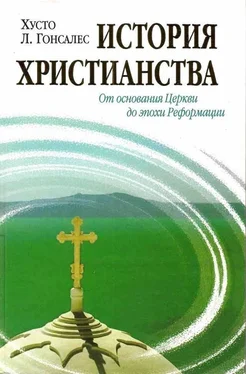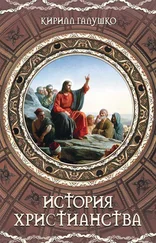Краеугольным камнем этой теории было обращение Константина. По мысли Евсевия, основная причина гонений – непонимание римскими властями, что христианство представляет собой наивысшее выражение лучших римских традиций. Вера и империя, так же как вера и философия, по сути не являются несовместимыми вещами. Наоборот, христианская вера – это конечная точка развития как философии, так и империи. Таким образом, по представлениям Евсевия, религиозная политика Константина имела значение не только потому, что она была выгодна церкви, но и по более глубоким причинам. Создавшаяся новая обстановка стала наглядным и убедительным доказательством истины Евангелия, к которому была направлена вся человеческая история.
Такая богословская точка зрения не позволяла Евсевию критически относиться к событиям, происходившим в то время. Он как будто бы отдавал себе отчет, что у Константина есть недостатки, в частности знал о его вспыльчивом характере и даже о проявлявшихся порой кровожадных наклонностях. И дабы избежать обсуждения этого вопроса, Евсевий просто обходил его молчанием.
Но суть заключается не в том, что Евсевий говорит или не говорит о Константине. Его труды показывают, до какой степени, пусть даже невольно, христианское богословие стало приспосабливаться к новым условиям, так что при этом оно даже отказалось от некоторых своих традиционных постулатов.
Чтобы показать, как менялось богословие применительно к изменившимся условиям, достаточно привести три примера. Во-первых, совершенно ясно, что в Новом Завете и ранней церковью утверждалось, что Евангелие – это прежде всего Благая Весть для нищих и что богатым чрезвычайно трудно услышать и принять ее. Один из наиболее сложных вопросов для ранних христиан заключался в том, как богатый человек может получить спасение. Но теперь, начиная со времен Константина, богатство и пышность стали считаться признаками божественного расположения. В следующей главе мы покажем, что монашеское движение возникло как протест против такого приспособленческого отношения к христианской жизни. Но Евсевий – и тысячи других, от имени которых он говорил, – как будто бы не сознавали значения радикальных изменений, в результате которых гонимая церковь превратилась в церковь власти, и опасностей, связанных с этим изменением.
Во-вторых, Евсевий с радостью и гордостью описывает вновь построенные и богато украшенные церкви. Но прямым результатом строительства таких церквей и проведения соответствующих им богослужений стало зарождение и развитие клерикальной аристократии, подобной имперской аристократии и столь же чуждой простому люду. Порядки, существовавшие в империи, церковь воспроизводила не только в богослужениях, но и в своем внутреннем устройстве.
Наконец, разработанная Евсевием концепция истории привела его к игнорированию основополагающей темы христианской проповеди: пришествия Царства Божьего. Хотя Евсевий и не говорит об этом прямо, при чтении его работ складывается впечатление, что замысел Божий нашел завершение в Константине и в его преемниках. В условиях существующего политического порядка лучшее, на что могут рассчитывать христиане, – обретение Небесного Царства для каждого отдельного верующего. Со времени Константина и в значительной мере благодаря работам Евсевия и многих других богословов, придерживавшихся такой же ориентации, постоянно проявлялась тенденция приглушить или отодвинуть на неопределенный срок надежду ранней церкви, что Господь вернется в облаках и установит Царство мира и справедливости. Позднее многие из тех, кто пытались возродить эту надежду, объявлялись еретиками и осуждались за ересь.
Евсевий был наиболее ярким сторонником произошедших изменений, но не единственным. Вся история того периода свидетельствует, что Евсевий, излагавший свои взгляды в наиболее доходчивой форме, просто-напросто выражал чувства христиан, полагающих, что Константин принес мир и обеспечил победу христианства над его врагами. Простые христиане не могли выразить свои мысли с таким же изяществом и с таким знанием дела, но именно они, продвигаясь шаг за шагом, определяли лицо церкви. Евсевий был не создателем того, что мы назвали "официальным богословием", а скорее выразителем мыслей тысяч христиан, которые, как и он, осознали Божью милость, избавившую церковь от гонений. Но, как будет видно из следующих глав, не все христиане относились к этому столь же восторженно.
Читать дальше