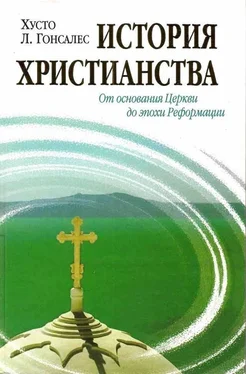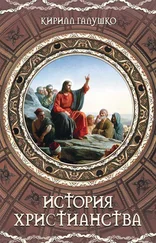Как же Писание соотносится с трудами философов? На первый взгляд между ними нет ничего общего. Но Климент был уверен, что внимательное изучение Писания приводит к пониманию той же истины, которую знали философы. Суть заключается в том, что Писание составлено аллегорически, или, по словам Климента, "в виде притчей". Священный текст может иметь далеко не одно значение. Буквальный смысл отвергать не следует. Но те, кто слепо его придерживается, подобны детям, питающимся молоком и не способным стать взрослыми. Помимо буквального смысла в тексте есть и другие мысли, которые должен раскрыть подлинно мудрый человек.
Вера и разум тесно взаимосвязаны – одно не может существовать без другого. Разум строит аргументацию на основополагающих принципах, которые нельзя доказать, но которые принимаются верой. Для подлинно мудрого человека основополагающим принципом является вера, это фундамент, на котором основывается разум. Но христиане, ограничивающиеся только верой и не использующие разум для ее развития, опять же подобны детям, которым нужно только молоко.
Людям, довольствующимся примитивной верой, Климент противопоставляет мудрецов или, по его словам, "подлинных гностиков". Мудрецы идут дальше буквального смысла Писания. Себя самого Климент видит не пастырем, ведущим стадо, а скорее "подлинным гностиком", направляющим людей, придерживающихся таких же взглядов. Это, естественно, элитарный подход, за который Климента часто критикуют.
Нет смысла подробно останавливаться на богословских воззрениях Климента. Хотя он и считал себя толкователем Писания, аллегорический метод побуждал его отыскивать в священном тексте идеи и доктринальные положения, вдохновленные Платоном. Бог невыразим, и о Нем можно говорить либо метафорически, либо опосредованно. Можно рассказать, кем Бог не является. Но когда речь заходит о том, Кто Он есть на самом деле, человеческий язык способен сказать только, что это не поддается разумению.
Этот невыразимый Бог раскрылся в Слове, или в Логосе, из Которого философы и пророки черпали все свои знания, и воплотился в Иисусе. В этом вопросе Климент следует по пути, начертанном до него Юстином. Основное различие заключается в том, что Юстин использовал учение о Логосе, чтобы показать язычникам истину христианства, а Климент с его помощью призывал христиан быть открытыми для принятия философских истин.
Как бы там ни было, роль Климента состоит не в том, как он понимал то или иное учение, а в том, что его взгляды и мысль отражали общую атмосферу в Александрии, во многом повлиявшую на развитие богословской мысли. Рассматривая ниже в этой главе взгляды Оригена, мы увидим, как в дальнейшем развивалась эта богословская традиция.
3.3 Тертуллиан Карфагенский
Тертуллиан во многом отличался от Климента. По всей видимости, он был родом из Карфагена, города на севере Африки. Большую часть жизни он провел именно там, но в христианство обратился в Риме примерно в сорокалетнем возрасте. Вернувшись в Карфаген, он написал несколько трактатов в защиту веры против язычников и в защиту ортодоксального христианства против различных ересей. Он был адвокатом, или судебным оратором, и все его литературное творчество несет на себе отпечаток юридического склада ума. В одной из предшествующих глав мы цитировали строки, в которых он протестует против "несправедливого закона" Траяна, согласно которому специально христиан разыскивать не следует, но когда они предстают перед властями, их надо наказывать. Читая этот отрывок, как будто слушаешь адвоката, выступающего в суде. В другой своей работе – "О душе" – Тертуллиан вызывает человеческую душу свидетелем в суд и, допросив ее, приходит к выводу, что "душа по своей природе – христианка" и упорствует она в отвержении христианства из-за своего уп-рямства и слепоты.
Наиболее ярко юридическая жилка Тертуллиана проявилась в трактате "Опровержение еретиков". На юридическом языке того времени термин prescriptio, фигурировавший в тексте сочинения, имел как минимум два значения. Он мог означать правовой аргумент, выдвигаемый до начала слушания дела, чтобы показать, что суд не может состояться. Если до начала заседания одна сторона могла доказать, что другая сторона не имеет права возбуждать дело, или что дело возбуждено неправильно, или что суд некомпетентен, судебное разбирательство отменялось. Но этот термин имел и другое значение, когда речь шла о "сроке давности". Если одна из сторон в течение определенного времени бесспорно владела какой-то собственностью или каким-то правом, это владение становилось законным, даже если другая сторона позднее предъявляла на него претензии.
Читать дальше