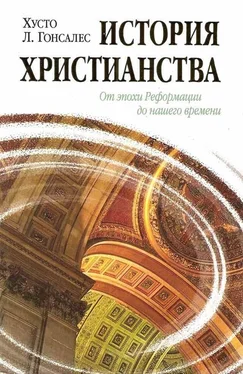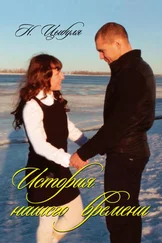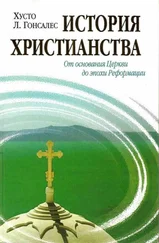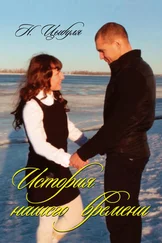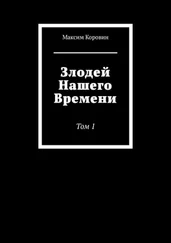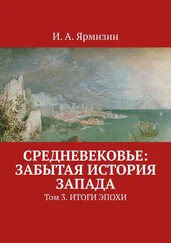Но что касается пути, по которому должна идти эволюция, то здесь мы не предоставлены самим себе. В этом процессе есть "пункт Омега" – конечный пункт всего космического процесса. Чтобы понять эволюцию, на нее надо смотреть не от начала до конца, а с конца до начала. Смысл всему процессу придает его завершение. А завершением этим, "пунктом Омега", является Иисус Христос. С Ним началась новая и заключительная стадия эволюции – "христосфера". Подобно тому как человечность и божественность неразделимо и неслитно соединились в Христе, каждый из нас в конце соединится с Богом, оставаясь при этом самим собой. Церковь, Тело Христово, есть новая историческая реальность, связанная с "пунктом Омега". Таким образом, Тейяр де Шарден соединил науку с богословием и даже со значительной примесью мистических идей. Но, в отличие от большинства представителей мистических направлений, он был мистиком, обращенным к миру.
Влияние Тейяра де Шардена заметно даже среди многих из тех, кто не принял его широкомасштабной космической схемы. Его попытка смотреть на эволюционный процесс "с конца до начала" побудила современных богословов, как католических, так и протестантских, вновь обратиться к эсхатологии – учению о "последних днях". Во многих важных разделах современного богословия эсхатология стала полезным исходным пунктом, а не просто дополнением ко всей остальной богословской системе. Во-вторых, мысль Тейяра де Шардена о продолжающемся эволюционном процессе и о нашем сознательном участии в нем побудила других богословов заняться исследованием вопроса об участии человека в осуществлении Божьих целей и относиться к человечеству как к активной действующей силе в формировании исторического процесса. Наконец, его земной мистицизм побудил многих связать свою духовную жизнь с политической деятельностью.
Еще одним представителем богословской мысли, развивавшейся в католической церкви в первой половине XX века вопреки желаниям Ватикана, был Анри де Любак, тоже французский иезуит и друг Тейяра де Шардена. Вместе с Жаном Даниелу де Любак издал объемное собрание ранних христианских произведений. Это солидное академическое издание было обращено к современной аудитории и отражало стремление де Любака связать в творческой и динамичной манере современный мир и христианское предание. По его мнению, за последние годы представление церкви о предании стало более узким, вследствие чего все христианское предание в значительной степени утратило динамизм. В сравнении с широтой и универсальностью раннего предания современное католическое богословие казалось узким и избитым. Но такие взгляды встретили неодобрение Рима, и к середине столетия его тоже заставили замолчать. Когда запрет был снят, иезуиты попросили его написать критическое исследование трудов и мыслей Тейяра де Шардена, дав им оценку в свете католического предания. Первый том был опубликован на французском языке в 1962 году, и Рим отреагировал немедленно, остановив проект и запретив повторную публикацию и перевод уже изданного тома. Де Любак не вполне разделял космическую масштабность взглядов Тейяра де Шардена, и это в сочетании с его глубоким знанием раннего христианского предания способствовало тому, что он оказал более сильное влияние на католическое богословие. Но он тоже считал, что перед всем человечеством стоит общая цель и что ход исторического развития легче всего понять при осознании, что этой целью является не кто иной, как Иисус Христос. Церковь – не как общественная организация, а как мистическое Тело Христово – являет собой священный символ в окружающем ее мире. Хотя Рим принуждал его к молчанию, де Любак пользовался уважением со стороны многих богословов и прогрессивно настроенных епископов и стал одним из "перито", то есть экспертов, участие которых во II Ватиканском соборе в значительной степени предопределило результаты работы этой ассамблеи. Сама его идея, что церковь представляет собой священный символ для мира, послужила основанием для принятия собором документов, отражавших открытость церкви миру.
Ив Конгар, еще один "перито" на П Ватиканском соборе, придерживался примерно той же ориентации. Он на собственном опыте пережил тяготы современной жизни – в 1939 году его призвали во французскую армию, и с 1940 по 1945 годы он находился в немецком плену. Будучи доминиканцем, он позднее возглавил доминиканский монастырь в Страсбурге. Как и де Любак, он пришел к убеждению, что в результате богословских споров церковь сузила свое понимание предания и тем самым отказалась от многих богатых по содержанию составляющих этого предания. Особенно его волновал вопрос о самосознании церкви, поэтому он считал необходимым выйти за рамки превалировавшего в то время чисто юридического и иерархического представления о церкви. Вдохновение он черпал в ранних учениях о церкви, в которых на первом плане находился образ "Божьего народа" и основное внимание уделялось мирянам. Такая точка зрения, подразумевавшая открытость другим христианам, в первой половине века казалась католикам необычной. Так же как Тейяра де Шардена и де Любака, Рим на какое-то время принудил Конгара к молчанию. Но он пользовался большим авторитетом и стал одной из ведущих богословских фигур на II Ватиканском соборе. Его влияние на этой ассамблее выразилось прежде всего в принятии постановлений о природе церкви, экуменизме и церкви в современном мире.
Читать дальше