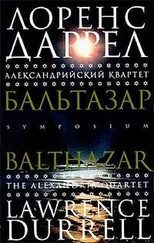Парадокс, далее, состоит в том, что классический Израиль связывает свои надежды с земным будущим, не уповая на личное бессмертие (Ис 38, 18; Иов 17, 15; Иез 37, 11 и т. д.). И даже когда надежда, поначалу ожидавшая немедленной помощи от Бога, начала постепенно перемещать свои упования к концу времен, все равно содержанием ее было в первую очередь «воскресение народа», а не отдельного человека. Мысль о личном бессмертии проникла сюда позже из других религий. Израиль открыл для человечества пространство будущего как спасения — для всего рода. Поскольку же союз с Богом двусторонен, то побеждающая надежда снова и снова перечеркивается мыслью о божьем суде — не только над врагами Израиля, но и самим неверным Израилем. Однако полная беспомощность перед лицом божьего суда становится основанием для новой надежды.
Воскресение Христа самим фактом своего свершения подрывает эту структуру надежды со всех сторон. Ожидание родового воскресенья перебивается встречей смертных людей, живших в прежние времена, с конкретным человеком, воскресшим в эсхатологическом плане. Тем самым эсхатологическая реальность располагается как бы поперек мирового времени: с одной стороны, этим чрезвычайно подогревается ожидание будущего: близкого пришествия ожидала ранняя Церковь, к смерти и потустороннему стремились ранние мученики и христиане более поздних времен, с другой стороны, это же ожидание будущего парализовалось: небесный град завоевывается во Христе — что из подлежащего земной надежде могло сравниться с этим? К тому же Господь воскрес лично, поэтому у каждого человека появилась надежда на спасение и страх перед Судом — надежда необходимым образом индивидуализируется. Связь между личной и социальной надеждой осознается все труднее.
Но хотя христианская надежда всегда пребывает в принципиальном состоянии «взвешенности» («ибо если кто видит, то чего ему и надеяться?», Рим 8, 24), все же надежда, «что и сама тварь спасена будет» (8, 21), покоится не только на вере в уже случившееся воскресенье «Первенца». Скорее, в этом событии мы — ходатайством и «воздыханиями» (8, 26) Святого Духа — имеем «залог» (Еф 1, 14) совершенного спасения, зависящего от Бога, почему Бог (как цель и как составляющая самого акта надежды) и есть «Бог надежды» (Рим 15, 13). В силу этого соблазны отчаяния и кажущееся затуманивание надежды служат лишь ее укреплению и оправданию (Рим 5, 3–5) и только углубляют ее радость (12, 12). Однако чистая трансцендентность воскресения, по-видимому, совершенно отодвигает на задний план мысль о «наступающем» мессианском времени: на земле еще остается дело — действенное — словом и самим делом — возвещение спасения. Если иудейская надежда восходит от неисполненного — к исполнению, то христианская, исходя из исполненного Христом, высвечивает трагически неисполненное человеком и миром.
Таковы три модели надежды: языческая, иудейская и христианская, которые борются друг с другом за смысл земного бытия. В христианскую эру, длившеюся вплоть до нового времени, иудейская надежда пребывала заключенной в гетто, тогда как христианская — вошла в некий альянс с античной надеждой. Сегодня этот альянс распался; внебиблейские формы надежды еще наличествуют, однако по сути потеряли свою действенность, между тем как две другие ее формы, ветхо- и новозаветная, пребывают в состоянии жесткой, опасной и плодотворной борьбы.
Христианская вера — также и по преодолении первохристианской формы скорого упования — постоянно окрылена новозаветной надеждой: вырвавшись из мира и превзойдя самое себя, обрести новое небо и новую землю. Из-за тайного присутствия конца света это превосхождение представляется не столько историческим движением, сколько постоянным биением волн о берег вечности. Но весь взыскующий спасения мир укрыт добрым провидением платоновско-стоического типа: оно поддерживает космос в целом — космос, по отношению к которому человек и история являются частью. И если в христианстве персональный момент (каждый должен по отдельности «явиться пред судилище Христово»! — 2 Кор 5, 10) — зачастую отбрасывает на картину мира глубокую тень, сгущаемую мрачным учением о предестинации позднего Августина, затем Готтшалька, Кальвина и Янсения, то все же христианство никогда не допускало гностически-манихейского раскола мира, который во всей своей совокупности есть целый и исцеленный мир исполненного любви Бога, заботящегося о всех существах. В широкой перспективе «подвешенная» надежда (эта «с трудом поддающаяся описанию» форма уверенности, которую надежда разделяет с верой, но которая ни в коем случае не должна, по Августину, превратиться в perversa securitas) [48] Jos. Pieper, Hoffhung, in: Handbuch theologischer Grundbegriffe I. 1962, 704; он же, Uberdie Hoffhung, 1935.
, поддерживаемая сознанием всеохватного космического порядка, остается цельной и неизменной.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу