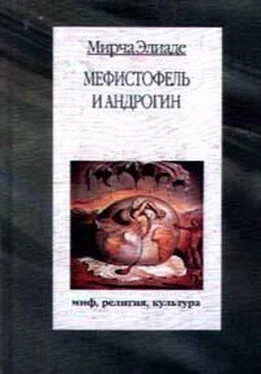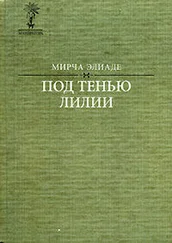Французское и английское декадентство время от времени возвращается к теме андрогина 40 , но речь всякий раз идет о зловещем или даже сатанинском гермафродитизме (как, например, у Алистера Кроули). Как во всех великих духовных кризисах, охватывающих Европу, здесь мы вновь сталкиваемся с деградацией символа. Когда дух утрачивает способность улавливать метафизическое значение символа, этот символ воспринимается во все более и более грубом плане. У писателей-декадентов андрогин понимается исключительно как гермафродит, в котором анатомически и физиологически сосуществуют два пола. Дело оказывается не в полноте, существующей благодаря синтезу полов, но в изобилии эротических возможностей. Здесь нет речи о появлении нового человеческого типа, в котором синтез обоих полов порождает новое сознание, свободное от полярности, — речь, так сказать, о чувственном совершенстве, происходящем от активного присутствия двух полов.
Эта концепция гермафродита была, весьма вероятно, вдохновлена внимательным изучением произведений античной скульптуры. Но писатели-декаденты не знали, что в античности гермафродит являл собой идеальную ситуацию, которую пытались духовно актуализировать посредством ритуалов; однако если у новорожденного обнаруживались признаки гермафродитизма, его умерщвляли собственные родители. Иными словами, конкретный, анатомический гермафродит считался ошибкой природы или знаком гнева богов и, соответственно, немедленно устранялся. Только ритуальный андрогин являлся образцом, идеалом, потому что ему было присуще не совмещение анатомических органов, но символическая целостность магически-религиозных сил, связанных с обоими полами.
Немецкий романтизм
Достаточно обратиться к немецким романтикам, чтобы обнаружить дистанцию, отделяющую идеал Пеладана от идеала Новалиса. Для немецких романтиков андрогин — тип совершенного человека будущего 41 . Риттер, знаменитый врач и друг Новалиса, наметил в своей книге «Фрагменты из наследия молодого физика» ( Fragmente aus dem Nachlass eines jungen Physikers ) целую философию андрогина. Для Риттера человек будущего, во всем подобный Христу, будет андрогином. «Ева, — пишет он, — была рождена мужчиной без помощи женщины; Христос был рожден женщиной без помощи мужчины; Андрогин будет рожден обоими. Но супруг и супруга сольются воедино в одном и том же сиянии». Тело, которое родится при этом, будет бессмертно. Описывая новое человечество будущего, Риттер прибегает к алхимической терминологии — указание на то, что алхимия была одним из источников, из которых черпали немецкие романтики для реактуализации мифа об андрогине.
Вильгельм фон Гумбольдт в одной из юношеских работ, «О мужской и женской форме» ( Uber die mannliche und weibliche form ), разрабатывал ту же тему; больше всего внимания он уделяет божественной андрогинносги — архаической и крайне распространенной теме, на которой мы остановимся позже. И Фридрих Шлегель также рассматривал идеал андрогина в своем эссе ( Uber die Diotima ), где критиковал акцентуацию исключительно мужских или исключительно женских характеров, которая характерна для современного воспитания и современных нравов. Поскольку цель, к которой должен стремиться род людской, — так рассуждает Шлегель, — это последовательная реинтеграция полов вплоть до достижения андрогинности.
Но из всех романтических писателей наиболее значительную роль проблеме андрогина отводит Франц фон Баадер. Для Баадера андрогин был началом всего — и вновь появится в конце времен. Основным источником, вдохновлявшим Баадера, был Якоб Бёме. Он заимствовал у Бёме идею первого падения Адама: сон Адама, во время которого его небесная подруга отделилась от него. Но благодаря Христу человек вновь станет андрогином, подобным ангелам. Баадер писал, что «цель брака как таинства — восстановление небесного или ангельского образа человека, такого, каким он должен быть». Сексуальную любовь не следует путать с инстинктом продолжения рода: ее истинная функция — «помогать мужчине и женщине внутренне восстанавливать совершенный человеческий облик, то есть изначальный божественный облик» 42 . Баадер считал, что над всеми прочими теологиями восторжествует та, которая представит «грех как распад человека, а искупление и воскресение — как его воссоединение» 43 .
Чтобы отыскать источники этой переоценки андрогина в немецком романтизме, следует изучить суждения Якоба Бёме и других теософов XVII века, в частности И. Г. Гихтеля и Готтфрида Арнольда. Благодаря комментированной антологии профессора Э. Бенца «Адам. Миф о первом человеке» [Adam. Der Mythus des Urmenschen, Munchen, 1955] эта работа может быть проведена достаточно быстро. Для Бёме сон Адама — это его первое падение: Адам отделился от божественного мира и «возомнил себя» погрузившимся в природу; тем самым он деградировал и стал принадлежать земле. Возникновение двух различных полов есть прямое следствие этого первого падения. Согласно некоторым продолжателям Бёме, Адам, видя, как совокупляются животные, был смущен желанием, и Бог даровал ему пол во избежание худшего 44 . Другая фундаментальная идея Бёме, Гихтеля и других теософов состояла в том, что София, божественная Дева, изначально находилась в Первом Человеке. Он пожелал над ней господствовать, и тогда Дева от него отделилась. Для Готтфрида Арнольда это означает, что плотское желание толкнуло Первого Человека на утрату этой «оккультной», тайной супруги. Но даже и сегодняшний, «падший», мужчина, любя женщину, всегда втайне желает эту небесную Деву 45 . Бёме сравнивал утрату Адамом андрогинной природы с распятием Христа 46 .
Читать дальше