Все три пророчества пронизаны одной, основной для священнического мировоззрения идеей: благополучие и процветание страны невозможны без Храма, в котором пребывает ГОСПОДЬ. Осторожные протестантские интерпретаторы, опасавшиеся представить божественное присутствие в Храме как некую магическую силу, не зависимую от личной воли ГОСПОДА, умаляли значение Храма, уделяя основное внимание силе и личным качествам ГОСПОДА. Подобная осторожность уместна, хотя и до известной степени, поскольку для священников Храм был местом пребывания ГОСПОДА, без которого божественный дар жизни был бы невозможен. По мнению Вестермана, Храм был местом особой концентрации благословений. Линдстрём же, исследуя тексты Псалмов, прекрасно показал, что именно Храм был местом пребывания божественной силы, дающей жизнь, поэтому доступ к нему был совершенно необходим для благоденствия народа:
Личный Бог — это Бог, пребывающий в Храме: «Чтобы ви־ деть силу (זע) Твою и славу (רבכ) Твою, как я видел Тебя во святилище» (Пс 62:3). Храмовая служба не давала страждущим возможности приобщения к «мистическому» опыту как средству перенесения или освобождения от жизненных тягот. Приходящие в Храм ГОСПОДА желали [sic] удостовериться в присутствии там Бога, управляющего жизнью всех и каждого и, следовательно, пославшего человеку те или иные несчастья, которые его терзают («во святилище» // «в жизни моей» — Пс 62:ЗЬ, 5а). Подобное подтверждение мог получить каждый, взывающий к «своему Богу» (Пс 3:3, 8), слыша ответ Бога «со святой горы» (Пс 3:5). Подобные примеры, равно как и эпитеты יכלם יהלאו — «мой Царь, мой Бог» (Пс 5:3), свидетельствуют об определенном традиционно–историческом контексте, в котором возникли личные псалмы–плачи, а именно о развитии во время существования монархии богословия, в центре которого был Храм на горе Сион. Царь, возведенный на престол в иерусалимском святилище, был не кем иным, как личным Богом (см. Пс 22:1, 6:חוחי יצר — «ГОСПОДЬ — пастырь мой», יתבשו חוחיתיבב — «я пребуду в доме ГОСПОДА»).
Подобным образом храмовые богословы говорили и о защите каждого человека, изображая его как «увенчанного» ГОСПОДОМ подобно тому, как венчается какой–либо из земных царей: חתא חוחי ננם ירעב — «Ибо Ты защищаешь его, ГОСПОДИ; как щитом, ТЫ венчаешь его благословением» (Пс 5:13). Согласно этому «монархическому» богословию, Царь Небесный делится своей царской властью, принимая праведника в свое присутствие (см. также Пс 8:6). Для понимания представлений о том, как Яхве, пребывающий в Храме, общается со смертным человеком, предоставляя ему защиту и делясь царской властью, очень важен эпитет ירבכ — «(Ты) слава моя» (Пс 3:4, в соединении со словом גנם — «щит»). Beроятно, этот эпитет можно интерпретировать как «Ты тот, кто дает мне славу мою (רובכ)», то есть Яхве оказывается источником как физического, так и духовного существования каждого отдельного человека (Пс 7:6, Пс 3:4; 57:9). Разделив царский почет и славу с человеком, Он даровал ему спасение. С точки зрения храмового богословия, именно благодаря этому божественному дару человек обретает достоинство и получает возможность общаться с Богом. Божественное присутствие спасительно. Оно не просто защищает от воздействия злых сил, но, как сама жизнь, предлагается человеку в качестве дара
(Lindstrom 1994, 436).
Для понимания Книги Аггея необходимо проникновение в мировоззрение священников. Храм — первостепенный дар ГОСПОДА, источник благословений, благополучия и самой жизни. Лишившись Храма, Израиль, по словам Аггея (2:15— 19), лишился всех прочих источников существования.
Тема четвертого пророчества (2:20–23) несколько иная. В нем не говорится о Храме. Автор текста обращается к теме стиха 2:6, где Бог говорит: «Я потрясу (небо и землю)», — и описывает потрясение вселенского масштаба, крушение имперской политической и военной системы. Однако результатом подобного переворота станет приход к власти Зоровавеля, наследника престола Давида. Это пророчество напоминает о все еще остающемся в силе обещании, данном Давиду, согласно 2 Цар 7 (см. также Пс 88), а также свидетельствует о популярности среди жителей Иерусалима идеи восстановления монархии. Конечно, персы не могли допустить прихода к власти потомка Давида, поэтому можно предположить, что это пророчество, избегая конкретных деталей, говорит, помимо всего прочего, о крушении персидской власти, сравнительно мягкой по отношению к возрождающемуся Иерусалиму.
Отличительная черта пророчества Аггея — соединение «реализованной эсхатологии», в центре которой находится Храм, символ и гарант благословений, процветания и благополучия народа (три первых пророчества), и «футуристической эсхатологии», связанной с надеждой на восстановление власти правителя из давидической династии (четвертое пророчество). Внутри самой библейской традиции не сохранилось каких–либо комментариев, истолковывающих взаимосвязь этих, казалось бы, противоречащих друг другу идей, безусловно, имевших своих сторонников среди членов вернувшейся из плена еврейской общины. Соединение этих идей можно объяснить двояко. С одной стороны, возможно, мы видим иерусалимскую традицию, всегда соединявшую Храм и монархию:
Читать дальше
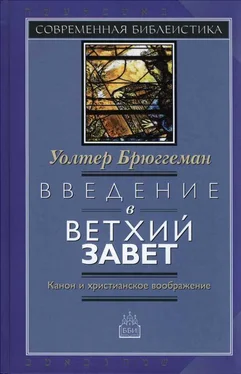

![Ветхий Завет - [Книга Иудифи]](/books/20931/vethij-zavet-kniga-iudifi-thumb.webp)






