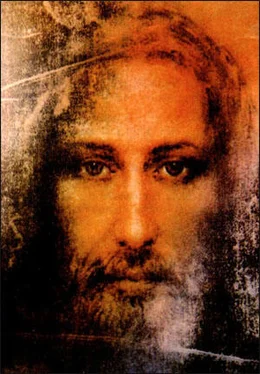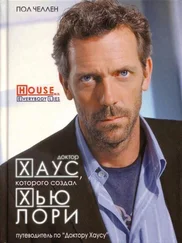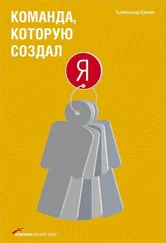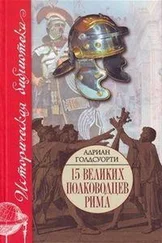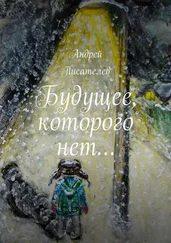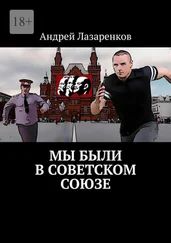Мысль Хантингтона прослеживается здесь очень чётко: не бывает серьёзных общественных катаклизмов без предварительного увеличения численности молодых возрастов в обществе. Этот факт находит подтверждение даже в биографиях многих известных революционеров и диктаторов. Так, Оливер Кромвель происходил из семьи, где было восемь детей. У Джорджа Вашингтона, одного из «отцов-основателей» Соединённых Штатов, было два брата и пять сестёр, у Дантона, деятеля Великой французской революции,— пять братьев и сестёр, у Наполеона — семь, у Михаила Бакунина, известнейшего анархиста-народника — десять, у Льва Троцкого — семь братьев и сестёр, из которых, правда, дожили до совершеннолетия лишь две сестры и брат. В семье Ульяновых было восемь детей, из них выжили шестеро, у испанского диктатора Франко — два брата и две сестры. У Алоиза Гитлера, отца будущего фюрера Германии, было восемь детей, из которых четверо умерли рано. У родителей Иосипа Броз Тито было пятнадцать детей, из них дожили до совершеннолетия семеро. Робеспьер и Муссолини происходили из семей, где было «лишь» по три ребенка — далековато, конечно, до, скажем, Ульяновых или Бакуниных, но всё-таки!
Из этих фактов, конечно же, не следует, что революционеры и бунтари должны происходить непременно из многодетных семей, скорее это говорит о том, что в революционные эпохи именно такие семьи были правилом, а не исключением.
Именно молодёжь, составляя в эпохи великих потрясений основную часть общества, становится главной движущей силой всех революций и мятежей. И французские якобинцы, и китайские хунвейбины, и гитлеровские штурмовики, и ленинские красногвардейцы — все они, как правило, были очень молодыми людьми, энергичными и бескомпромиссными, нетерпеливыми и нетерпимыми, готовыми ради возвышенных идеалов не задумываясь жертвовать жизнью — и своей и чужой. Эту характерную черту всех больших революций очень верно подметил известный швейцарский ученый-психолог К.Г. Юнг, который говорил, имея в виду, конечно, прежде всего события 1933 г. в Германии: «Во времена огромных сдвигов и перемен естественно ожидать, что молодёжь захватит власть, потому что только ей присущи дерзость, порыв и вкус к приключению. В конце концов это их будущее поставлено на карту, это их рискованная затея и эксперимент. Старое поколение естественно отходит на задний план, и жизненный опыт должен бы подсказать ему подчиниться неизбежному ходу событий. Пропасть между поколениями обусловлена как раз тем, что старое поколение не идет в ногу со временем и, вместо того чтобы предвидеть ход событий, оказывается застигнутым бурей новой эпохи...» {74}. [17] А вот и своего рода комментарий к словам Юнга: «в Гамбургском округе в 1925 году около двух третей членов партии (НСДАП. — А. Л.) были моложе тридцати лет, в Галле их было даже 86%, да и в остальных округах эти показатели если и отличались, то не намного. В 1931 году 70% берлинских штурмовиков составляли люди, не достигшие 30 лет...» {75}.
Удивительно точные слова, в справедливости которых легко убедиться, бросив беглый взгляд на современную карту мира. Мы тотчас же увидим, что все перевороты, все революции и восстания сегодня совершаются только там, где по-прежнему высокая рождаемость, и где много активной молодёжи — Палестина, Косово, Северный Кавказ, Афганистан, Ирак, Иран, ряд стран Африки и Южной Америки... Во Франции рождаемость в целом не велика, но ведь и бунтовали там не коренные французы, а иммигранты с гораздо более высокой плодовитостью. Зато в России, где рождаемость чрезвычайно низка, абсолютно никаких значительных социальных катаклизмов не происходит, да, по правде сказать, уже никогда и не произойдёт. Если в обществе преобладают зрелые и пожилые возрасты, то и всё общество в целом будет вести себя по-стариковски, не устраивая революции, а панически боясь их («Терпеть надо, а то хуже будет!»). Ведь ещё Гегель, помнится, писал о том, что деятельность всего общества слагается из деятельности отдельных людей: суммирование всех воль и стремлений вырабатывает в конечном итоге некую усреднённую модель поведения, которой общество и будет следовать. Вот поэтому молодежь в России, составляя меньшинство населения и подвергаясь оппортунистическому влиянию старших возрастов, не рвётся на баррикады, а в лучшем случае пытается делать карьеру, а в худшем — погибает от наркотиков и алкоголя.
Как влияет возрастной состав населения на поведение общества в целом, легко понять, посетив на досуге два богоугодных заведения — детский дом и дом престарелых. А впрочем, и безо всяких экскурсий в оба эти дома ясно, что микроклимат в них будет совершенно разный. В детском доме — озорство, весёлый шум, драки, а в доме престарелых — тишина и почти что кладбищенский покой.
Читать дальше