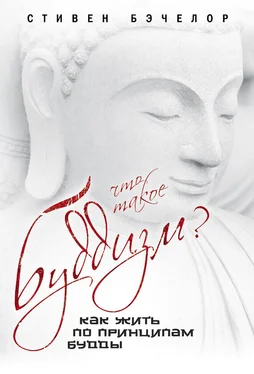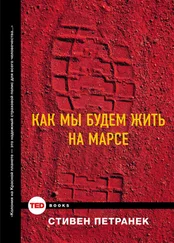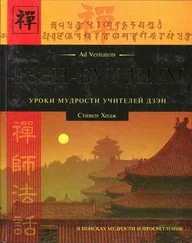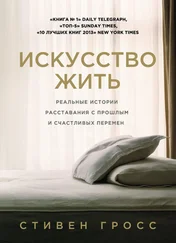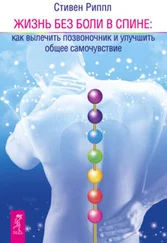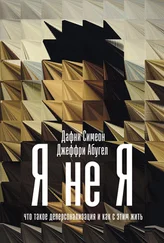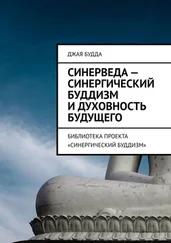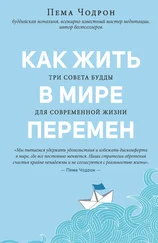...
Я самостоятельно пришел к выводу, что практика буддийской медитации не была поисками мистического опыта
Кем бы ни был Ньянавира Тхера, я находил в нем родственную душу. Я взял книгу Очищая путь домой и прочитал ее от корки до корки. Я был очарован стилем письма – сардоническим тоном, всесторонней эрудицией, почти черным чувством юмора – и, прежде всего, мятежной искренностью автора. До того ни одна буддийская книга на английском языке не вызывала во мне такую бурю эмоций.
Я хотел больше узнать о Ньянавира Тхере. Я наводил справки у монахов Шри-Ланки, рылся в библиотеках и архивах буддийских центров в Англии, связывался с людьми, которые могли бы знать его, и даже отыскал его внучатую племянницу в Лондоне. Я узнал, что Нья-навира Тхера был англичанином. Он родился в 1920 году под именем Гарольд Массон в аристократической военной семье. Единственный ребенок, склонный к перепадам настроения и самоанализу, он рос в каменном особняке в Гемпшире. В 1938 году его приняли в Колледж Магдалины в Кембридже, где он изучал математику, а затем – современные языки. Он поступил на военную службу в начале второй мировой войны и в 1941 году стал офицером разведки. Первоначально он нес службу в Алжире, а позже – в Италии. В его обязанности входил допрос военнопленных. В 1945 году он был госпитализирован в Сорренто, где увлекся недавно опубликованной книгой по буддизму под названием La dottrina del risveglio (Доктрина пробуждения ) итальянца Юлиуса Эволы.
На первый взгляд, Юлиус Эвола был самым невероятным защитником буддизма. Когда двадцатипятилетний капитан Массон читал La dottrina del risveglio на своей больничной койке в Сорренто, он еще не знал, что Эвола был в Вене – он бежал из Италии после падения Муссолини – и переводил масонские тексты для гиммлеровского общества Аненербе, нацистской организации, занимающейся установлением исторического превосходства арийской расы. Члены Аненербе предполагали, что Сиддхаттха Готама мог иметь арийское происхождение, и в 1938 году организация отправила в Тибет экспедицию под руководством хауптштурмфюрера СС Эрнста Шефера с целью обнаружения новых доказательств. Немцы провели два месяца в Лхасе в начале 1939 года, измеряя черепа и черты лица тибетцев и собирая буддийские тексты. Они не встретили недавно обнаруженного четырехгодовалого Далай-ламу, который все еще жил в деревне у своих родителей возле китайской границы, готовясь к своему отъезду для возведения на престол в Лхасе. Интерес Эволы к буддизму, однако, был вызван его убеждением, что учение палийского канона сохранило истинный арийский дух аскетической самодисциплины, который был «чрезвычайно аристократичным», «анти-мистичным», «антиэволюционистским» и «мужественным». По мнению Эволы, эта арийская традиция была в значительной степени потеряна на Западе из-за «влияния на европейские религии понятий семитского и азиатско-средиземноморского происхождения».
После службы пехотинцем во время первой мировой войны Эволой, как многими из его поколения, завладело «чувство несостоятельности и тщетности целей, которыми обычно движима человеческая деятельность». В результате он стал абстрактным художником, членом дадаистского движения и другом его основателя, румына Тристана Цары. К 1921 году он разочаровывается в дадаизме и отвергает изобразительное искусство, потому что оно не способно разрешить его душевные муки. Он экспериментировал с наркотиками, которые позволяли ему достичь «состояний сознания, частично выходящих за пределы физических чувств… часто приближающихся к сфере визионерских галлюцинаций и возможно, даже безумия». Эти опыты только ухудшали его затруднительное положение, усиливая чувство распада личности и хаоса, пока он не дошел до того, что решил в возрасте двадцати трех лет совершить самоубийство.
От этого шага его спасло чтение отрывка из Собрания средних наставлений палийского канона, в котором Будда говорит: «Кто думает об угасании: «Это мое угасание», и радуется угасанию, тот, говорю я, не ведает угасания». Для Эволы это было «как внезапное пробуждение»: «Я понял, что мое желание покончить со всем этим, убить себя, было одной из цепей – “неведением” в противоположность истинной свободе». Эвола, однако, не стал буддистом. Он считал написание La dottrina del risveglio расплатой за «долг» перед Буддой за свое спасение от самоубийства.
Как напишет Гарольд Массон три года спустя в предисловии к своему английскому переводу, в книге Эволы его привлекло то, что она «воскресила первоначальный дух буддизма» и прояснила «некоторые из неясных представлений, которые скопились вокруг центральной фигуры, принца Сиддхартхи, и вокруг его учения». Ее «подлинное значение», по его мнению, однако, состоит в «ее поощрении практического применения учения, которое в ней описывается».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу