Сомнения опасны для воспроизводства мемплекса. Если священный текст перестает соответствовать реалиям эпохи, есть два способа сохранить пиетет к нему. Во-первых, сместить акценты на другие, более подходящие фрагменты, посчитав «неудобный» текст данью традиции. Во-вторых, толковать его иносказательно. Последнее тем более ценно, что некоторые этические нормы, запечатленные в священных книгах, века спустя могут оказаться пощечиной общественному вкусу или расцениваться как призыв к экстремизму — как это, например, случилось со вполне конкретным призывом Мухаммеда, обращенным против изгнавших его племен идолопоклонников и затем ставшим частью канона, полезной для распространения мемплекса. Можно ли сейчас пропагандировать священную войну против неверных, если в Коране сказано: «Убивайте их (многобожников), где бы вы их ни встретили» 7 7 Коран. 2:190–191.
? Разумеется, нет — как следствие, мусульманские богословы, кроме самых радикальных, со второй половины XX века трактуют джихад исключительно как борьбу со своими страстями. И в том, и в другом случае имеет место перевод некогда «доминантных» алломемов в разряд «рецессивных» — до того времени, когда они вновь окажутся нужны. Священную книгу нельзя переписать, но можно добавить к ней комментарий, который позволит трактовать ее смысл по-новому: так, Гемара была попыткой расширить и переосмыслить Мишну, творения отцов церкви (Священное предание) — дополнениями к Библии, сунна и фетвы, послужившие источником наиболее близкой к повседневной жизни области ислама — мусульманского права, поясняют и дополняют Коран, смрити — тексты, созданные мыслителями индуизма, — это расширение идей шрути, по преданию, полученного непосредственно от богов. Верующие убеждены, что комментарии лишь разъясняют неясные места священных книг, тогда как в действительности они сплошь и рядом вводят новые идеи, позволяющие приспособить религию к изменившимся историческим обстоятельствам. Комментарии, включающие доказавшие жизнеспособность алломемы, со временем окостеневают, становятся частью канона — как уже в V–VI веках считался завершенным Талмуд, а в позднее Средневековье — Священное предание. Канон, таким образом, представляет собой нечто вроде поезда, к которому каждая эпоха добавляет свой вагон, причем локомотив довольно часто цепляют к хвосту поезда — так, в христианстве именно Новый Завет обеспечивает актуальность Ветхого, а в современном индуизме «Бхагават-Гита» «тянет за собой» громоздкую «Махабхарату» и архаичные Веды.
И все-таки этих способов недостаточно — религия устаревает, и люди остро нуждаются в ее пересмотре. «К чему Мне множество жертв ваших? — вопрошает Господь устами пророка Исаии. — Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу». И далее: «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову» 8 8 Исаия. 1:11–16 и 1:17.
. Напоминая, что вера — не механическое исполнение обрядов, а стремление к добру, Христос говорит: «Суббота для человека, а не человек для субботы» 9 9 Мк. 2:27.
, и ему вторят ниспровергающие иудейскую догму апостолы: «Буква убивает, а Дух животворит» 10 10 1 Кор. 3:6.
. О том же говорит и Будда, называя ритуалы и внешние атрибуты веры оковами (самояна): «Человек не будет нравственно чист оттого, что он долго очищался в воде. Чистый человек, брамин, тот, в ком обитает истина и добродетель» 11 11 Удана. 1:9.
.
В кризисные периоды резко возрастает роль народной религиозности. Историки обычно рассматривают народных пророков как социально-политическую оппозицию официальной церковной структуре. Это, разумеется, не лишено оснований: протестантизм действительно стоял в оппозиции к католической церкви, хасидизм — к раввинату, русские раскольнические течения — к православной церкви и т. п. Но помимо социально-политического, важен и собственно религиозный аспект: каждое из этих явлений — попытка возобновить практику «телефонных звонков» Богу, служивших источником религиозного знания. Такие попытки, разумеется, редко выходят за пределы картины мира, заложенной религией, которую пытаются реформировать. И Лютер, и Кальвин, и Бешт говорят лишь об очищении веры, о возвращении к ее изначальному смыслу, а, не дай Бог, о каком-то ее изменении. Настоящего новаторства, в современном смысле этого слова, тут мало: контроль религиозных мемплексов-триумфаторов над сознанием был столь велик, что никакая осознанная попытка введения новшеств не могла родиться — намерение исказить догму заставило бы верующего испытывать невероятные духовные страдания.
Читать дальше
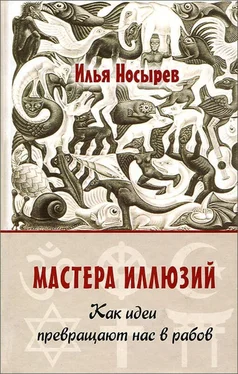
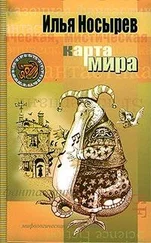




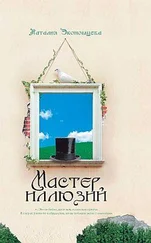

![Анна Гурова - Мастер иллюзий [СИ]](/books/409350/anna-gurova-master-illyuzij-si-thumb.webp)
