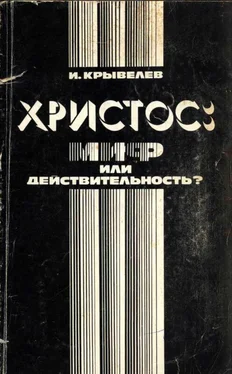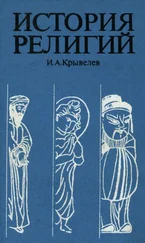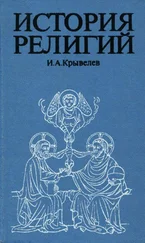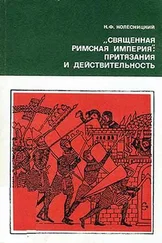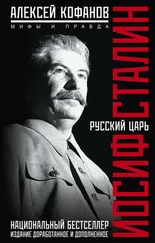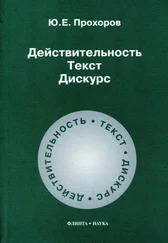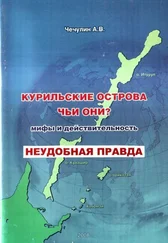Слово «мессия» (древнееврейское «машиах») означает в переводе на русский язык «помазанный» или, как принято говорить, помазанник. Имеется в виду обряд помазания головы благовонными маслами, который выполнялся у древних евреев над вступавшим на престол царем. Речь идет, таким образом, о человеке, который должен стать иудейским царем и, возглавив обретшее независимость еврейское государство, привести избранный народ к благоденствию и процветанию. Все остальные государства, в том числе те, которые до сих пор господствовали над евреями, будут посрамлены и покорно склонят свои головы перед народом святых. В ряде ветхозаветных книг ярко выражена надежда на наступление этого счастливого времени.
В книге Исаии содержится знаменитое пророчество: «И будет в последние дни, гора дома господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы, и скажут: прийдите, и взойдем на гору господню, в дом бога Иаковлева, и научит он нас своим путям; и будем ходить по стезям его. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово господне из Иерусалима. И будет он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» (II, 2–4). Всеобщий мир и благоденствие будут достигнуты лишь ценой того, что помазанник (в переводе на греческий — христос) подчинит весь мир избранному народу.
Первоначально имеется в виду при этом не сверхъестественное существо, а реальный человек, государственный и военный деятель, который будет действовать реальными же средствами. Конечно, ему будет обеспечено полное содействие со стороны потусторонних сил. И помимо того, сам момент его появления и время его деятельности, да и выбор богом именно данного человека для выполнения столь высокой миссии — все это относится к области небесного соизволения. Но этим и ограничивается сверхъестественный характер миссии и деятельности помазанника.
Даже в сравнительно позднем ветхозаветном документе — в книге Даниила, появившейся около 165 года до н. э., — перспектива воцарения мессии связывается с реальной военной победой над сирийскими властителями Иудеи.
И все же с течением времени фигура мессии в религиозной фантазии евреев приобретает все менее земные и все более сверхъестественные черты. Его образ все более приближается к характеру ниспосланного богом на Землю небожителя, по своему рангу не то подобного ангелу, не то приближающегося к самому богу. Еще у Исаии мы находим место, где само рождение мессии облекается в форму туманной и абстрактной тайны: «Младенец родился нам, сын дан нам; владычество на раменах его, и нарекут имя ему: чудный, советник, бог крепкий, отец вечности, князь мира» (IX, 6). Здесь мессия чуть ли не отождествляется с самим богом. Впрочем, несколько дальше сказано, что «ревность господа Саваофа соделает это» (IX, 7). Не исключено, что место, возводящее мессию в высочайшую степень, является позднейшей вставкой в текст Исаии, датируемый концом VIII века до н. э. В апокрифической книге Еноха, относящейся к самому началу н. э., мессия выглядит уже как существовавший «от века».
Вместе с тем образ мессии претерпевает и другое важнейшее изменение: наряду с победоносным воителем, который объединит свой народ и поведет его к решительной победе над всеми врагами, появляется в религиозной фантазии образ мученика, который ценой своих страданий искупит грехи народа божьего и таким путем приведет его к благоденствию.
Общий облик мессии-страдальца начертан уже в книге Исаии. Там говорится о существе, в котором нет «ни вида, ни величия»; это «муж скорбей и изведавший болезни», презираемый людьми и ни во что не ставящийся ими. «Но он взял на себя наши немощи, и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен богом». До сих пор речь идет о каких-то болезнях, которым подвергался страдалец со стороны самого бога. Но дальше дело его истязания берут на себя уже люди. «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих; как овца веден был он на заклание и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». В конце концов он «претерпел казнь», причем, хотя «ему назначали гроб с злодеями, но он погребен у богатого». Все это было сделано во исполнение воли бога, которому «угодно было поразить его» (LIII, 3—10). За свое мученичество таинственный «Он» должен получить великую награду — «он узрит потомство долговечное, и воля господня благоуспешно будет исполняться рукою его»; «он получит часть между великими и с сильными будет делить добычу…» (LIII, 12).
Читать дальше