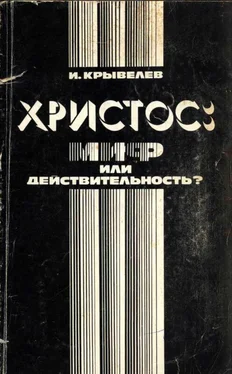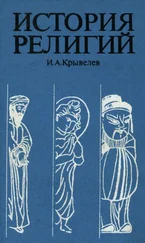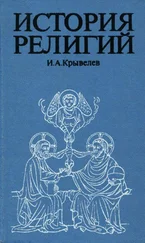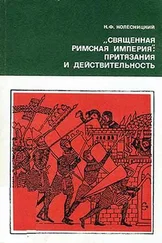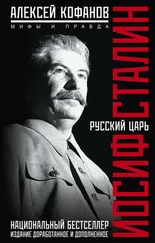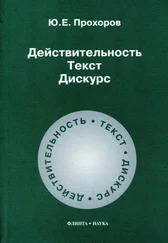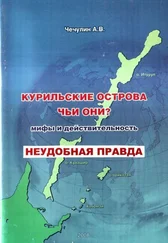Стараясь, правда без особого успеха, свести воедино евангельское изображение учения Христа, Ренан (надо отдать ему должное) не упрощает психологическую картину переживаний и чувств Иисуса на протяжении короткой истории его деятельности.
По мере того как проповедь Иисуса имеет все больший успех и вербует ему все большее число приверженцев, он оказывается во все более затруднительном положении. По существу, он не знает, что ему делать с теми людскими массами, которые готовы пойти за ним. Скоро он вообще перестает быть хозяином положения. «Увлекаемый… ужасающим нарастанием энтузиазма и находясь под влиянием требований своей все более и более возбуждающей проповеди, Иисус более уже не был свободен в своих действиях; теперь он принадлежал своей роли и в некотором смысле человечеству» [55] Ibid., p. 330.
. Он поплыл по увлекавшему его течению.
Борьба в его сознании и поведении двух начал — апокалиптического и земного — завершилась победой первого. Оно требовало не сопротивления и земной борьбы, а мученической гибели. Перед лицом этой перспективы Иисус переживал страшный душевный кризис. «Порой можно было сказать, что разум его мутится…, следует напомнить, что минутами его близкие говорили о нем, что он вышел из себя, а враги объявили, что он одержим бесом». Приступы смертельной тоски сменяются моментами бурной экзальтации, когда «голова у него идет кругом под влиянием величественных видений царства божия, которые постоянно огнем горят перед его глазами» [56] Ibidem.
. И, наконец, он принимает решение — идти на смерть.
Такое решение производит переворот и в его поведении. С этого момента кончается всякая двойственность, всякое тактическое маневрирование. «Мы видим его снова цельным и без малейшего пятнышка. Все уловки полемиста, легковерие чудотворца и заклинателя бесов теперь забыты. Остается лишь несравненный герой страстей…» [57] Ibid., p. 371.
. И здесь Ренан опять-таки схематизирует евангельские повествования. Ведь в них «несравненный герой страстей» впадает в полное малодушие. Правда, Ренан отмечает, что в какой-то момент страх, сомнение овладели им и повергли его в состояние слабости, которое хуже всякой смерти, но этот момент он относит к периоду, предшествовавшему героическому решению Христа «испить чашу до дна», после чего Христос якобы уже больше ни в чем не колеблется.
В общем, Ренан создал яркий и контрастный психологический образ человека трагической судьбы, притом человека весьма недюжинного. Ренановский Иисус — личность великого масштаба, но такого же масштаба и присущие ей чисто человеческие страсти, противоречия и слабости. Фигура Иисуса в изображении Ренана выглядит психологически правдоподобной. В какой-то мере она правдоподобна и исторически, хотя критики почти единодушно упрекали автора в том, что он изобразил Иисуса по своему образу и подобию как парижанина эпохи Второй империи — бурно темпераментного и сентиментального, изящного, остроумного и не очень последовательного в своих словах и действиях. При всем этом нельзя не видеть в конструкции Ренана настойчивое стремление рассматривать фигуру Иисуса в свете исторических и географических условий древнего Востока.
И самое важное — эта конструкция в значительно большей мере базируется на художественной фантазии выдающегося писателя Эрнеста Ренана, чем на объективных свидетельствах исторических документов.
Душевнобольной? (по Ж. Мелье, А. Бинэ-Сангле и Я. Минцу)
Трудно сказать, кто первый в литературе высказал такой дерзкий взгляд. В отчетливой форме мы впервые находим его сформулированным в «Завещании» Жана Мелье, французского католического священника конца XVII — начала XVIII века, о котором лишь после его смерти стало известно, что всю жизнь он был законченным и последовательным атеистом.
Его отношение ко всякой религии, в том числе к христианству, было непримиримо отрицательным и враждебным. Тон, в котором он говорил о религии, христианстве, о Христе, может показаться чересчур резким, а применяемые им выражения даже бранными. Его можно, однако, понять. Это было время полного и безраздельного господства церкви если не над умами людей, то над их жизнью и судьбами. Малейшее открытое выступление против догматов христианства могло привести человека на костер инквизиции. Самому Мелье пришлось всю жизнь держать свои убеждения при себе и при этом выполнять обязанности сельского священника. Не удивительно, что у него накапливалась с трудом сдерживаемая ярость, выход для которой он давал, лишь оставаясь наедине с самим собой и со своими рукописями. А в общественной атмосфере того времени все более обострялись противоречия между феодальной аристократией, опиравшейся на церковь, и подымавшими голову народными массами. Одним словом, это была предгрозовая атмосфера кануна Французской буржуазной революции.
Читать дальше