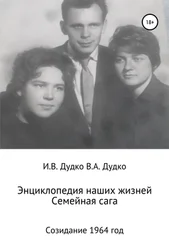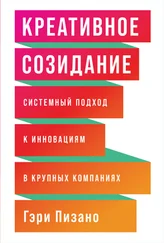Линия падения, ведущая от Декарта к современному индивиду, не является совершенно прямой. После триумфа века Просвещения (или, иными словами, света на языке тех, кто сотворил эту эпоху) человек ожидал обрести покой на земле, ожидал скорого продвижения к разумному миру. Однако вместо этого мы увидели, что мир, сотворенный из света, лишенный теней и полутонов, мог быть местом глубочайших страданий. Такое понимание явилось прелюдией к возникновению романтизма, который ярко проявился как хвалебная песнь ночи, противопоставляемой дню; иррациональности, противопоставляемой разуму; тайны, противопоставляемой знанию. Возрождалась любовь к дикой природе, противопоставляемой городской среде, к первобытным людям с их верой в магию, противопоставляемым европейцам с их потребностью в предсказуемом мире. Вновь обнаружилось, что у человека есть не только сознание, но и бессознательная составляющая. Такое представление впервые сформировалось в немецком романтизме (на языке, склонном к глубине, порой даже к мраку, в отличие от языка Декарта с его любовью к ясности и прямолинейности). А затем, поскольку такое повторное открытие тьмы было движением большой глубины, которое не желало оставаться в пределах умозрительных рассуждений, оно обратилось к реальным жизненным переживаниям и вошло в мир реальной амбивалентности, которая продолжает мучить нас по ночам и не зависит от той жизни, которую мы ведем при свете дня. Именно здесь наблюдается зарождение психоанализа.
Манифестом такого нового восприятия сложности явилось восклицание Фауста: «Du bist dir nur des einen Trieb bewusst, / O lerne nie den andern kennen! / Zwei Seelen wohnen, ach! In meiner Brust / Die eine will sich von der andern trennen» (Тебе знакомо лишь одно стремленье, / И пусть неведомым останется другое! / Ах, две души живут в моей груди / И обе не хотят быть вместе) ( Фауст , часть I, «У ворот», 1110–1113).
Блейлер убрал фаустовский раскол из сложного мира поэтического вымысла, преобразовал его в психиатрическую концепцию и ввел понятие амбивалентности 82. Психоанализ явился важной составляющей общего культурного возрождения, особенно значительна роль Юнга, который был самым выдающимся учеником Блейлера в Бургхольце.
Утверждается, что люди, не знающие своей истории, не знают себя; и если мы, аналитики, не совсем четко осознаем свою принадлежность к этому великому историческому направлению человеческой мысли, вновь обратившему внимание на душу, то нас тоже можно будет обвинить в недостаточном знании себя и своей профессии.
Итак, необходимо было изобрести психоанализ, чтобы вновь дать место мраку и глубине. Современный человек, видимо, не желает более нести на себе тяжесть этих представлений, однако они бдительно следят за всеми попытками избавиться от них и упрямо продолжают преследовать его. Необходимо было изобрести психоанализ для того, чтобы воссоздать такое место, где тайна вновь могла бы быть священной гостьей, а не постоянным врагом, которого следует безжалостно убивать.
Мрак, глубина и сложность, навсегда оставаясь непостижимыми для нашей души, находят свое выражение не только в понятии амбивалентности, введенном Блейлером, но также и в двух формах мышления, описанных К.Г. Юнгом 83. В основе той части нашей сущности, которая формирует ясные мысли и обладает способностью выбирать, лежат мораль, закон, наука, политика и значительная область философии. Анализ, с другой стороны, остается почти в полном одиночестве – даже религия охотно соглашается покинуть это поле – со всем тем внутри нас, что парализовано амбивалентностью, загипнотизировано тайной, и с вечным страхом размышляет о бесполезности напряженных волевых усилий. Эта часть нашей сущности не так уж и мала, даже напротив, она весьма значительна. Действительно, представляется, что большинство людей проходят свой путь от рождения до могилы, не имея четких мыслей, ничего для себя не выбирая. Кажется, что большая часть тех немногих, кто в течение жизни реализует свою способность совершать выбор, осуществляет его только в критические мгновения своей жизни.
Наша психика функционирует, подчиняясь правилу амбивалентности; тогда как осуществление выбора и занятие определенной позиции в тех или иных обстоятельствах является исключением, которое порождается сильным страданием. Поэтому амбивалентность представляет собой первоначальное состояние, окутанное изначальным хаосом; и Фрейд совершенно справедливо заметил, что амбивалентность в значительной мере усиливается в среде представителей более примитивных культур 84. Склад ума и форма повествования, которые направляли внимание представителей таких культур на эту далеко немаловажную составляющую человеческой сущности, определяются словом «трагический». Мы обнаруживаем истоки такого мировосприятия в древнем эпосе, а первую настоящую кульминацию в греческой трагедии.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
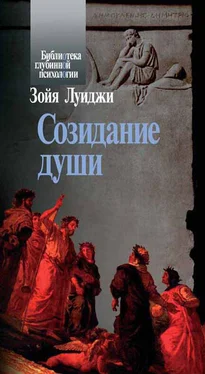
![Луиджи Капуана - Сказки Италии [Сказки для детей]](/books/35715/luidzhi-kapuana-skazki-italii-skazki-dlya-detej-thumb.webp)
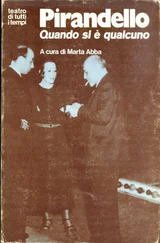
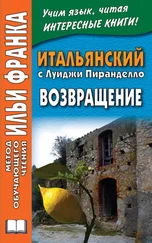
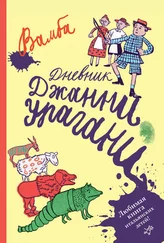
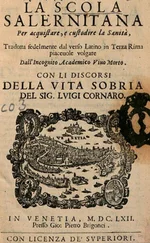
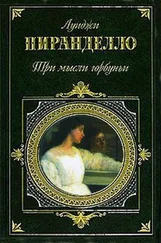

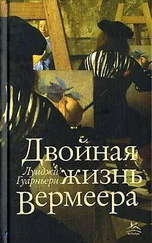
![Луиджи Капуана - За счастьем [Повесть]](/books/412686/luidzhi-kapuana-za-schastem-povest-thumb.webp)