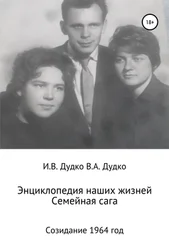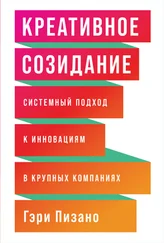В свою очередь, благодаря жесткому делению сил на человеческие и сверхъестественные и главенству этих последних в древнем обществе, это убеждение содержало также и предостережение: не углубляйся в область счастья, потому что никто не может управлять судьбой; ты столкнешься с высшими силами, ревниво охраняющими свои привилегии. В отличие от наших современников, люди в античном или первобытном обществе по большей части избегали заходить на территорию счастья. Некоторые из-за общего подозрительного страха, из уважения к метафизическому, нечеловеческому авторитету, которому была доверена эта область. Другие – из-за ясного убеждения в том, что божество их за это накажет; другими словами, для них божество не только оставляет за собой право наделять счастьем, но и пользуется им единолично.
Эти идеи несут в себе не столько признаки политеизма или монотеизма, сколько глубокое психологическое значение, верное для любого времени: счастье, о чем нам, впрочем, говорит и этимология, не может быть нами спланировано – как счастливый случай или атмосферные явления, оно приходит и уходит по своему усмотрению, как дождь или ветер. Оно представляет собой случайное свойство, которым мы испытываем саму судьбу. Итак, его не только невозможно организовать – его нельзя и достичь. Основная причина, по которой мы в него верим и ищем его взглядом, как товар в супермаркете, состоит, вероятно, в путанице между счастьем и удовлетворением материальных потребностей. Этого последнего действительно можно достичь: но ни для кого не секрет, что депрессии, самоубийства и нечто подобное зачастую встречаются именно там, где достигнуты оптимальные материальные условия жизни.
Все эти констатации не убедят нас отказаться от наших желаний. Благоразумие никогда никого еще не убеждало. Напротив, в отличие от древних, удовлетворив одно желание, мы тут же вытаскиваем на свет следующее. В действительности наши потребности не имеют ничего общего со счастьем, а только с тем фактом, что, потеряв веру в трансцендентную вечность, мы ищем заменитель в бесконечно продолжающемся желании.
И в завершение темы мы приводим маленькую нравоучительную басню – отрывок из « Сказок » Л.Н. Толстого, который может проиллюстрировать разницу между счастьем и удовлетворением потребностей:
Царь и рубашка
«Один царь был болен и сказал: “Половину царства отдам тому, кто меня вылечит”.
Тогда собрались все мудрецы и стали судить, как царя вылечить. Никто не знал. Один только мудрец сказал, что царя можно вылечить. Он сказал: “Если найти счастливого человека, снять с него рубашку и надеть на царя – царь выздоровеет”.
Царь и послал искать по своему царству счастливого человека; но послы царя долго ездили по всему царству и не могли найти счастливого человека. Не было ни одного такого, чтобы всем был доволен. Кто богат, да хворает; кто здоров, да беден; кто и здоров и богат, да жена не хороша; а у кого дети не хороши – все на что-нибудь да жалуются.
Один раз идет поздно вечером царский сын мимо избушки, и слышно ему – кто-то говорит: “Вот, слава богу, наработался, наелся и спать лягу; чего мне еще нужно?”
Царский сын обрадовался, велел снять с этого человека рубашку, а ему дать за это денег, сколько он захочет, а рубашку отнести к царю. Посланные пришли к счастливому человеку и хотели с него снять рубашку; но счастливый был так беден, что на нем не было рубашки».
Что такое анализ? «Лечение разговором»? Это едва ли является ответом на поставленный вопрос. Будет ли «лечение разговором» специализированной формой терапии (конкретным видом «лечения») или специализированной формой повествования (конкретной разновидностью «разговора»)? В последнем случае явится ли он особой формой самовыражения, подобно поэзии или беллетристике, театру или кино?
Ответ на такой вопрос может оказаться весьма сложным или крайне прямолинейным. Рискуя пойти на чрезмерное упрощение, я предлагаю выбрать второй вариант.
Аналитическое повествование отказывается от господствующей в наше время рациональной ясности, слова используемого им языка мрачны, хотя и несут высокий энергетический заряд; они способны объяснить значительно больше, чем ясные слова, не связанные с анализируемыми аффектами. Такое повествование создает собственный мир. Используемые в нем шифры и его содержание принадлежат исключительно ему самому, руководящая роль принадлежит не столько законам грамматики, сколько законам драматического жанра.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
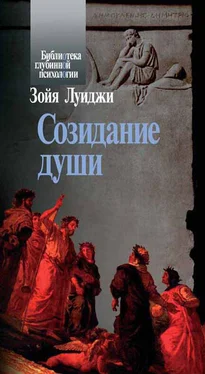
![Луиджи Капуана - Сказки Италии [Сказки для детей]](/books/35715/luidzhi-kapuana-skazki-italii-skazki-dlya-detej-thumb.webp)
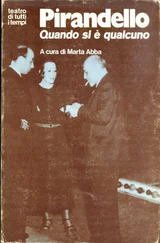
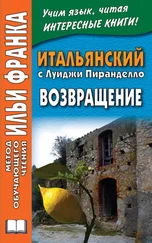
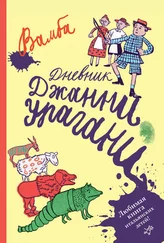
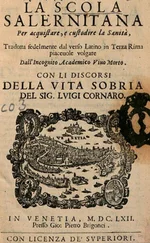
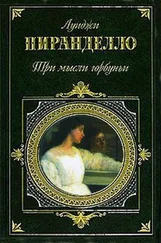

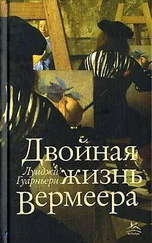
![Луиджи Капуана - За счастьем [Повесть]](/books/412686/luidzhi-kapuana-za-schastem-povest-thumb.webp)