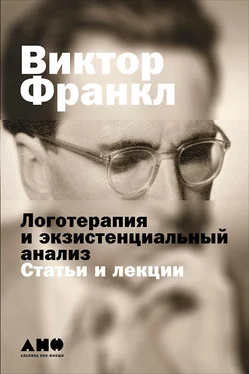Психические симптомы, которые сопутствовали хроническому недоеданию, заключались в «апатии, замедлении реакции, ослаблении концентрации внимания и работы памяти» (Коэн). Ван Вульфтен-Пальте наблюдал в японских лагерях учащение и ухудшение психических расстройств на последней стадии крайнего недоедания, сопровождавшихся острыми состояниями дезориентации. Этому противоречат свидетельства Гластра фон Лоона о том, что в Нидерландах люди переносили недоедание спокойно, без психических симптомов, и даже смерть воспринималась спокойнее, что согласуется с наблюдениями Коэна.
Тигезен и Килер описывают наиболее заметные изменения психики: нарушения в работе памяти, снижение либидо, апатия. Депрессивные реакции, фобии и истерические симптомы, напротив, проявлялись редко. Попытки самоубийства были редким исключением. Согласно данным авторам, в немногочисленных случаях этиологической причиной нарушений был недостаток витаминов. Упомянутые авторы считают более правдоподобным следующее: описанные здесь психические синдромы, расстройства духа, сопутствующие патологическому голоданию, вызывают функциональные, а возможно, даже морфологические изменения в головном мозге. Лами и другие исследователи в некоторых случаях благодаря вскрытию получили возможность констатировать отек мозга, который intra vitam [111] им ел такие проявления, как бред, полная дезориентация и ригидность.
Что касается людей, возвратившихся из концлагерей, у них, согласно Хофмейеру и Хертел-Вулфу, проявлялись разнообразные симптомы: беспокойство, ощущение переутомления, ухудшение концентрации, возбудимость, непоседливость, сбои в работе памяти и способности к концентрации, раздражительность, вегетативные симптомы, депрессии и головные боли. У 78 % освобожденных узников обнаруживались невротические симптомы; 47 % людей жаловались на ночные кошмары, связанные с концлагерем. Во многих случаях эти многочисленные симптомы проявлялись не раньше чем через шесть и более месяцев, и в дальнейшем они протекали замедленно, в некоторых случаях без тенденции к выздоровлению; многие и через четыре года после возвращения домой страдали от последствий пребывания в концлагере, а у 44 % освобожденных эти симптомы перетекли в хронические формы. Процент людей с тяжелыми невротическими симптомами был прямо пропорционален тяжести условий жизни в концлагере; так, тяжелые невротические симптомы, связанные с возвращением из лагеря, наблюдались у 52 % ставших «мусульманами» [112]и 75 % тех, кто перенес сыпной тиф. Хофмейер и Хертел-Вулф объясняют возникновение этих неврозов как физическими, так и психическими травмами – вполне вероятно, что среди этиологических факторов «невроза возвращения из концлагеря» доминирует чисто соматический стресс, особенно если учесть выраженную корреляцию между потерей веса и степенью тяжести невротического заболевания. Отсутствие неврологических дефектов вовсе не исключает возможности соматического происхождения «невроза возвращения из лагеря». Кроме того, не исключается возможность и длительного латентного периода, предшествующего проявлению первых симптомов.
Согласно Гзеллу, в случаях средней тяжести требовалось от четырех до восьми недель, чтобы сколько-нибудь оправиться от последствий голодания, в то время как отеки лодыжек не сходили месяцами. Розенчер говорит о «симпатической гиперактивности», которая длится минимум шесть месяцев, а Бок утверждает, что о полном восстановлении можно говорить лишь спустя очень много времени, а до тех пор пациенты легко утомляемы, в том числе в умственном плане, медленнее обучаются новым навыкам, от стояния или хождения у них могут повторно возникать отеки лодыжек, возвращается диарея; у женщин менструальный цикл восстанавливается лишь месяцы спустя.
В Дании по заказу государства было выполнено тщательное психиатрическое исследование бывших борцов Сопротивления, находившихся в заключении. Его автор К. Герман называет описанный выше синдром синдромом концлагеря. Во Франции принято говорить об астеническом синдроме депортированных. Вегетативная лабильность также широко обсуждалась на конгрессе по социальной медицине, который проводился в июне 1954 г. в Копенгагене и был посвящен проблемам патологии бывших депортированных и интернированных. Во время конгресса Герман в своих основательных рассуждениях показал, что эта симптоматика имеет иную природу по сравнению с рентными неврозами [113]. Как отмечает Банзи, возможно, большое значение имеет то, что Михелу, представителю бывших немецких узников концлагерей, удалось, по его собственному утверждению, дифференцировать и изучить в различных аспектах две большие группы депортированных: военнопленных и политических заключенных в немецких концлагерях. Последние, кроме нечеловеческих условий жизни и голода, испытывали постоянное чувство унижения, претерпевали тяготы жестокого обращения и физические истязания и, наконец, страдали от предчувствия грозящей расправы. Следует признать, что большинство военнопленных было избавлено от этого дополнительного стресса и что политические узники концлагерей имели, таким образом, более тяжелые психологические травмы, чем голодающие военнопленные. Что касается узников-евреев, то кроме перечисленных трудностей, как отмечает Коэн, они тяжело переносили весть о том, что их супруг или супруга, дети, родители или другие близкие были убиты.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу