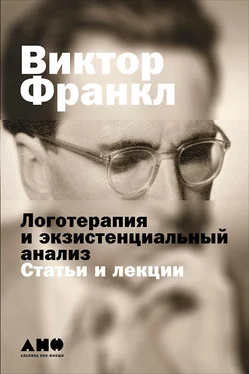Учитывая то, что человеческому существованию в принципе присущ преимущественно временной уклад, более чем понятно, что жизнь в лагере означала потерю этого уклада. Собственно, без опоры на фиксированную точку отсчета в будущем человек не может существовать. При нормальной жизни, ориентируясь на эту самую точку, структурируется все настоящее человека, как металлические опилки структурируются, ориентируясь на полюс магнита. И наоборот, утрачивая «свое будущее», человек утрачивает всю структуру временнóго плана своего существования, переживание им времени. Жизнь превращается в вечное настоящее, в бездумное существование, подобное тому, какое изобразил Томас Манн в «Волшебной горе», рассказывая о неизлечимых туберкулезных больных, которые также не знают срока своего «освобождения». Или же у человека возникает ощущение пустоты, бессмысленности существования, подобное тому, какое испытывают безработные, также утратившие структуру переживания времени, как показал цикл психологических исследований безработных горняков (Лазарсфельд и Цайзель).
Латинское слово finis означает одновременно «конец» и «цель». В момент, когда человек не в состоянии предвидеть конец временного состояния, он не может ставить перед собой никаких целей и задач – жизнь в его глазах утрачивает всякое содержание и смысл. Напротив, предвидение конца и момента исполнения цели в будущем образует ту духовную опору, которая так необходима заключенным, поскольку именно эта духовная опора в состоянии защитить человека от разрушительного действия сил социального окружения, от изменений характера, от полного падения.
Тот, кто не имеет возможности зацепиться за какой-либо конечный пункт, момент времени в будущем, к какой-нибудь конечной остановке, неизбежно переживает внутреннее падение. Душевный упадок из-за отсутствия духовной опоры и вызванная им полная апатия была для всех узников лагеря явлением хорошо знакомым и пугающим. Зачастую апатия развивалась так стремительно, что через несколько дней это приводило к катастрофе. Люди, охваченные апатией, однажды просто оставались лежать на своих местах в бараке, отказывались идти на построение или на работу, не заботились о получении пищи, не ходили умываться, и ни угрозы, ни предупреждения не могли вывести их из этой апатии. Людей ничто не страшило, даже наказание – они относились к нему тупо и равнодушно. Им было безразлично абсолютно все. Такое длительное лежание (порой в собственной моче и экскрементах) было опасно для жизни не только потому, что могло навлечь наказание, но и само по себе – в витальном отношении. Это отчетливо проявляется в тех случаях, когда заключенного охватывало ощущение «бесконечного» пребывания в лагере. Вот один из примеров.
В начале марта 1945 г. товарищ по лагерю рассказал мне, что 2 февраля того же года ему приснился страшный сон: голос, якобы пророческий, сказал ему, что он может спросить о чем угодно – ему ответят на любой вопрос. Товарищ спросил, когда для него будет окончена война. Голос ответил: 30 марта 1945 года. 30-е число приближалось, однако никаких признаков того, что голос сказал правду, не наблюдалось. 29 марта мой товарищ свалился в бреду и лихорадке. 30 марта он потерял сознание, а 31-го скончался от сыпного тифа. Действительно, 30 марта, в тот день, когда он потерял сознание, война для него окончилась.
Мы можем с полным правом и всей клинической строгостью предположить, что разочарование, которое вызвал у узника реальный ход событий, обусловило снижение жизненного тонуса, иммунитета, общей сопротивляемости организма, что, в свою очередь, ускорило развитие дремлющей в нем инфекции.
Наше понимание этого случая подкрепляется и более масштабными наблюдениями, о которых сообщал один из лагерных врачей: в его лагере узники лелеяли надежду на то, что к Рождеству 1944 г. они уже будут дома. Наступило Рождество, а сообщения газет не несли заключенным ничего воодушевляющего. И что же в итоге? За неделю, с Рождества до Нового года, в лагере случилось такое количество смертей, какого здесь раньше никогда не случалось и которое нельзя было объяснить ни погодными катаклизмами, ни ухудшением условий труда, ни вспышкой инфекционного заболевания.
В конечном счете выходило так, что телесно-душевный упадок зависел от духовной установки, в которой человек, однако, был свободен! Помещая человека в лагерь, можно было отнять у него абсолютно все – от очков до ремня, однако эта свобода оставалась с ним, она была с ним буквально до последнего мгновения, до последнего вздоха. Человек был свободен в том, чтобы настроиться так или иначе, и эти варианты «так или иначе» действительно существовали. И в лагере всегда находились такие заключенные, которым удавалось подавить в себе раздражительность и справиться с апатией. Это были те люди, которые в строю со всеми остальными маршировали вдоль бараков или на построение, но всегда находили для товарищей доброе слово и делились последним куском хлеба. Они являли собой свидетельство того, что никогда нельзя сказать наверняка, что лагерь сделает с человеком: превратится ли он в типичного заключенного или, несмотря на стесненное положение, на экстремальную пограничную ситуацию, все-таки останется человеком. Всякий раз решение остается за ним самим. Поэтому неправильно говорить о том, что в концлагере человек по необходимости и принуждению подчиняется давлению на него условий – силы, формирующей его характер. Благодаря тому, что я в другом контексте назвал упрямством духа, человек сохранял принципиально важную возможность оградить себя от влияния этой среды. Если бы мне требовалось подтверждение тому, что упрямство духа действительно существует, концлагерь в этом отношении представляет собой experimentum crusis [108].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу