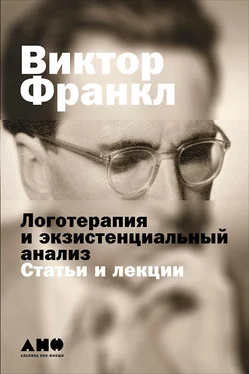Существуют и необходимые проекции; да, любая онтическая наука как таковая – в противовес всему онтологическому знанию – не обходится без того, чтобы делать проекции, вынуждена не замечать дименсионального характера своего предмета и списывать его измерения. Все это означает не что иное, как проецирование объекта. Таким образом, наука – это обязательная ликвидация полномерной структуры реальности : наука вынуждена экранировать и выносить за скобки – должна симулировать и действовать так, «как если бы…».
Но наука должна и понимать, что она делает! При этом наука не должна пытаться никого ввести в заблуждение, что она – не средство имитации, а «здравый человеческий рассудок», либо, если сформулировать точнее, непосредственное самосознание незамысловатого и простого человеческого бытия, для которого такие вещи, как дух, свобода и ответственность превращаются в обычные «фикции». Натурализм вовсю убеждает человека в том, что это именно фикции, биологически редуцируя их до каких-то внутримозговых процессов или вообще приравнивая к ним, либо дедуктивно выводя дух, свободу и ответственность из психологического материала. Но незамысловатый и простой человек не считает себя «психическим механизмом». Напротив, такой человек уже давно понял особую связь, которую он имеет со своей духовностью, свободой и ответственностью. Человек осознает это гораздо раньше, чем узнает о том, что такое мозг, либо чем услышит о конфликте влечений, из которых дух сперва должен непостижимым образом сформироваться. Мы видим, что проекции и научные модели бывают не только обязательными и необходимыми, но и ненужными. Собственно, психология должна быть и ноологией – независимо от того, хотим ли мы ее так называть. Лишь в таком качестве она может претендовать на то, чтобы понять (хотя бы приблизительно) такие феномены, как «личность» – «существование» – «духовное» (в зависимости от того, с каких позиций она подходит к ним – феноменологических, антропологических или онтологических).
К экзистенциям человеческого бытия относятся: духовность, свобода и ответственность человека. Три эти экзистенции характеризуют не только человеческое бытие-в-мире как таковое, но и в принципе формируют его. В таком смысле духовность является не только характеристикой человека, но и его ключевым элементом: духовное не просто описывает человека (описывают человека и телесное и духовное), духовное – это отличительная черта человека, свойственная ему в первую очередь.
Самолет, разумеется, не перестает быть самолетом, даже если катится по земле; оказавшись на земле, он может и должен продолжать двигаться! Но тот факт, что самолет – это самолет, доказывается лишь тогда, когда эта машина пускается в полет по воздуху. Так же и человек начинает вести себя как человек лишь после того, как сумеет выйти из плоскости своей психофизической телесной фактичности и противопоставить себя самому себе – при этом, конечно, у него не возникает нужды себе противоречить.
Именно такая возможность и называется экзистенцией, и означает экзистенцию: все время оставаться немного выше самого себя.
Духовная данность «сопровождает» иные данности. При этом такое присутствие нельзя представить пространственно – и не только потому, что это не пространственное, а «действительное» присутствие; но потому, что эта «действительность» является не онтической, а онтологической. Итак, дух не находится «снаружи» в каком-либо онтическом смысле, а находится квази -снаружи в онтологическом смысле!
Конечно, мы не собираемся уверять читателя, что здесь мы говорим обо всем лишь «в переносном смысле»; ведь с тем же успехом можно было бы утверждать и противоположное, что воплощенное присутствие (например, совместное времяпрепровождение двоих людей) также является присутствием в ограниченном смысле, а именно в пространственно-ограниченном – или, если хотите, в телесно-ограниченном! Ведь первым и основным является бытийный смысл, не-пространственный и не-телесный, словом, не-воплощенный.
Наиболее сущностный вопрос всей теории познания с самого начала поставлен неверно! Ведь вопрос о том, как субъект может постичь объект, бессмыслен уже потому, что сам этот вопрос является результатом недопустимого опространствения и сопутствующей онтизации истинного обстоятельства; здесь мы просто вынуждены спросить, как субъект может выйти за собственные пределы и познать «внешний» относительно себя объект, по той простой причине, что в онтологическом смысле этот объект в принципе не может выйти «за собственные пределы». Если же этот вопрос понимается в онтологическом смысле, и понятие «снаружи» употребляется не как «метафорическое», то наш ответ должен быть таким: « Так называемый субъект всегда находился, так сказать, снаружи в контакте с так называемым объектом!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу