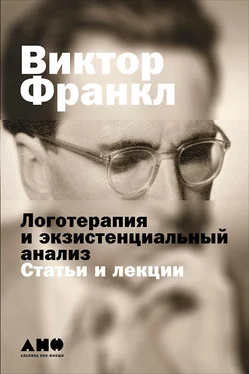Рабочая группа во главе с Лоуренсом Колбергом (Гарвардский университет) в публикации Genetic Psychology Monographs (том 110, с. 91, переиздано в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung от 9 октября 1985 г., с. 31−32) приходит к выводу, что «вопреки всем психоаналитическим спекуляциям в настоящее время совершенно невозможно определить по первым годам жизни, кто из детей в зрелом возрасте будет подвержен неврозу. Даже наиболее характерные патологические факторы, такие как ранняя потеря матери, вопиющее поведение родителей, разлучение или инцест, не имеют практически никакого прогностического значения для оценки душевного развития в последующие годы. Однако здесь требуется сделать серьезную оговорку: если в детстве человек был склонен к острым вспышкам ярости, систематическому непослушанию, бегству из дома, а в более старшем возрасте – к школьным прогулам, то существует серьезная опасность, что в зрелом возрасте он может стать преступником, алкоголиком либо развить иные поведенческие проблемы». Аналогичная ситуация прослеживается и с шизофренией, так как «спрогнозировать ее можно гораздо увереннее, чем другие эмоциональные и душевные срывы. К сожалению психоаналитиков, данная закономерность обусловлена одним лишь фактом, что шизофрения – это биолого-медицинская болезнь, а не психологическое нарушение развития. Таким образом, большим прогностическим потенциалом обладают биологические факторы. Риск заболеть шизофренией резко возрастает у тех детей, среди родственников которых есть шизофреники, даже если эти дети воспитываются в приемных семьях здоровыми родителями. Особенно тяжелой хронической шизофренией часто страдают те взрослые, которые получили при рождении легкую, но вполне заметную мозговую травму. Лишь такой анамнез, а не психоаналитические спекуляции на тему духовных травм объясняет тот факт, что будущий шизофреник уже в детстве испытывал проблемы с общением, страдал от частых приступов страха, а родители не могли выстроить с ним доверительные отношения».
Во благо и исцеление болящим (лат.).
Рабочая палата – австрийский суд по разрешению трудовых споров. – Прим. ред.
Теория двойной связи – концептуальная модель, предложенная Г. Бейтсоном в 1956 г., объясняющая развитие шизофрении особенностями общения в семье. – Прим. ред.
Можно возразить, что сама парадоксальная интенция манипулятивна постольку, поскольку она – признаемся! – работает с «трюком». Это возражение, однако, необоснованно, так как в случае парадоксальной интенции «трюк» исходит не от терапевта против пациента, а от самого пациента против невроза. В этом, как я не устаю повторять, заложена основа работы этого «механизма», этой «техники»: пациент делает это сознательно, и это гуманизирует парадоксальную интенцию – и ее терапевтическую эффективность, как экспериментально доказал Ашер. Иными словами, в рамках парадоксальной интенции происходит «игра с открытыми картами», и поэтому манипулятивный характер, который имеют разные аналогичные «стратегии», тут исключается. В особенности, в противоположность «парадоксальной интервенции» в нашем случае не терапевт производит «интервенцию», но сам пациент задает себе «направление».
Русское издание В. Франкла «Психотерапия на практике» является переводом его книги Psychotherapie fuer den Alltag, в то время как Die Psychotherapie in der Praxis не переводилась. – Прим. ред.
Экс-канцлер доктор Бруно Крайский и университетский профессор доктор Виктор Франкл были приглашены выступить в конференц-зале Технического университета Вены в рамках подиумной дискуссии «Голод в третьем мире и кризис смыслов в первом мире». Крайский выступал с первой частью доклада, а Франкл – со второй.
Как правило, принято интересоваться лишь той причиной, которая может спровоцировать кого-либо на попытку самоубийства. Однако нас должна интересовать не столько причина, толкающая человека на это, сколько причины, удерживающие человека от попытки самоубийства. Иными словами, речь идет о ресурсах, которые можно мобилизовать для преодоления не только таких пограничных ситуаций, как нахождение в плену, но и тяжелых депрессий, сопровождаемых суицидальными порывами. По этим же причинам оказывается не столь важно измерять интенсивность суицидальных импульсов при помощи специальных тестов, сколь определять, в какой степени конкретный пациент способен противостоять этим импульсам, опираясь на смысл жизни, смысл выживания. Соответствующие указания по проведению беседы, направленной на раскрытие таких фактов, читатель найдет в моей работе «Доктор и душа» (Ärztliche Seelsorge на с. 43).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу