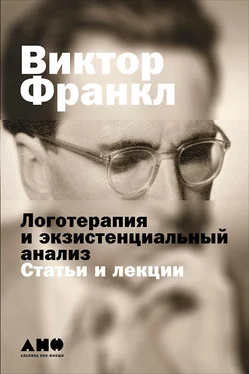Стоит ли в таком случае удивляться, когда оказывается, что неотъемлемая, пусть даже довольно неявная набожность позволяет, несмотря на ожидания, сопротивляться внешним условиям и обстоятельствам. Так, мои сотрудники хорошо потрудились, проследив произвольно отобранную серию клинических материалов общей длительностью 48 часов в поисках корреляций, которые позволили бы выявить связь между религиозностью в жизни и образом отца. Примечательно, что из 23 человек, выросших в благоприятной педагогической атмосфере, лишь 16 позже сохранили хорошее отношение к Богу, тогда как семеро разуверились в Нем. Из 13 испытуемых, выросших в условиях негативного образа отца, лишь двоих человек можно было однозначно квалифицировать как нерелигиозных, в то время как не менее 11 человек пришли к религиозному образу жизни [164].
Итак, довольно о влиянии воспитания. Как обстоит дело с влиянием среды? Опираясь на профессиональный опыт и личные переживания, берусь утверждать, что для абсолютного большинства верующих узников концлагерей Бог «не умер», что противоречит тезису одного американского раввина, чья книга «После Освенцима» (After Auschwitz) призвана убедить нас в обратном (в конце концов, автор не был в Освенциме). Насколько я могу судить, либо вера в Бога безусловна, либо речь не идет о вере в Бога. Если она безусловна, то сохранится и после того, как 6 миллионов человек стали жертвами холокоста. Если же она не безусловна, то такая вера – прибегну здесь к аргументации Достоевского – исчезнет при виде единственного невинного ребенка, лежащего на смертном одре. Ведь с Богом нельзя торговаться, нельзя сказать Ему: «Если жертвами холокоста падут 6000 или, ладно уж, миллион человек, я не перестану верить в Тебя; но если количество жертв достигнет миллиона и более, то делать нечего – мне жаль, но я утрачу веру в Тебя».
Факты свидетельствуют, что афоризм Ларошфуко [165]о любви и разлуке можно перефразировать: точно как буря гасит слабый огонь, а большой огонь только раздувает, так и слабая вера угасает под гнетом катастроф, а сильная вера выходит из них лишь окрепшей.
Итак, довольно о внешних обстоятельствах. Как быть с внутренними условиями, сила противиться которым должна быть у веры? В одной моей книге [166]я описываю случай тяжелого маниакального расстройства, в другой книге – случай эндогенной депрессии [167]и случаи шизофрении [168], в которых религиозность пациента нисколько не затрагивалась его психозом.
Уважаемые дамы и господа, после того как я представил вам операциональное определение религии, которое настолько нейтрально, что включает в себя даже агностицизм и атеизм, я остаюсь психиатром, работающим с религией и воспринимающим ее как человеческий феномен, выражение наичеловеческого из всех человеческих феноменов, а именно воли к смыслу. На самом деле религию можно определить как «волю к конечному смыслу».
Такое определение религии, сформулированное нами, созвучно другому, которое в свое время дал Альберт Эйнштейн: «Быть религиозным означает найти ответ на вопрос "В чем смысл жизни?"» [169]. Есть и еще одно определение, предлагаемое Людвигом Витгенштейном: «Верить в Бога означает видеть, что жизнь имеет смысл» [170]. Как видим, точки зрения физика Эйнштейна, философа Витгенштейна и психиатра Франкла в той или иной степени совпадают.
Возникает вопрос: насколько три этих определения приемлемы и для теологов? Религиозный человек верит в смысл жизни (Людвиг Витгенштейн), но если человек верит в смысл жизни, достаточно ли этого, чтобы считать его религиозным (Альберт Эйнштейн)? Так или иначе, ответ на вопрос о том, справедлив ли не только тезис Витгенштейна, но и его обратная формулировка, предложенная Эйнштейном, мы можем требовать и ожидать только от теолога. Если же говорить о том, что можем – и должны – сделать мы, психиатры, то нам следует только поддерживать диалог между религией и психиатрией в духе взаимной толерантности, которая совершенно необходима в эпоху плюрализма и в сфере медицины, что является одним из лейтмотивов в переписке между Оскаром Пфистером и Зигмундом Фрейдом. Благодарю вас за внимание.
Логотерапия работает с конкретным смыслом конкретных ситуаций, в каждой из которых оказывается конкретный человек. Однако логотеория занимается не только «волей к смыслу» вообще, но и затрагивает волю к конечному смыслу. В рамках феноменологического анализа можно констатировать: чем объемнее смысл, тем сложнее он постижим . Если мы говорим о конечном смысле, то как минимум для интеллектуального познания он оказывается полностью недоступен. Однако если что-то невозможно познать, это еще не означает, что в данный феномен невозможно поверить.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу