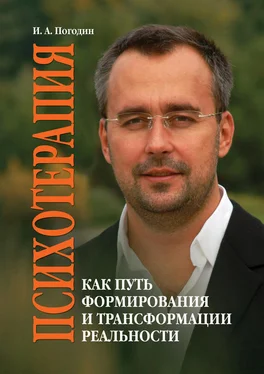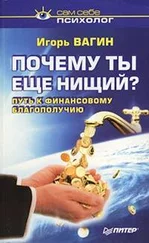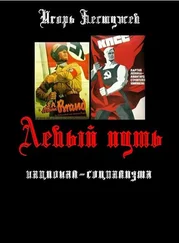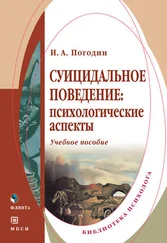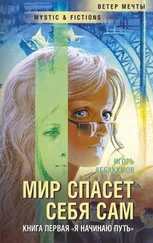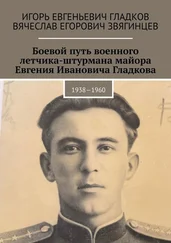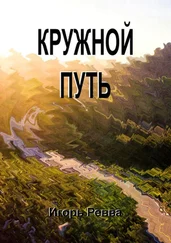Однако в случае, если интервенция смогла разместить феномен на границе-контакт между терапевтом и клиентом, у клиента появляется возможность впечатлиться происходящим. Именно впечатление лежит в основе феноменологической динамики поля, поскольку порождает новый феномен в ответ на появление в контакте предыдущего. Услышав то или иное сообщение терапевта, исходящее из непосредственного опыта последнего, клиент имеет возможность отреагировать на него так, как подсказывает его «сердце». Полученное в результате впечатление является источником новых феноменов, о которых клиент имеет возможность сообщить терапевту. В свою очередь, при наличии присутственного контакта и свободы выбора один или несколько новых феноменов поля получают в результате право на жизнь, будучи размещенными в диалоге с терапевтом. И так продолжается все время терапии, которая не заканчивается никогда, разве что только со смертью ее участников или в связи с решением остановить терапию.
Становится очевидным, что одним из важнейших механизмов описанного процесса является впечатление. Наличие у терапевта способности к впечатлению определяет и качество феноменологической динамики. Зачастую клиент, обращающийся за помощью, не способен на гибкость впечатления. Впечатление в случае потери творческого приспособления тиражируется из ситуации в ситуацию, способствуя бесперебойному функционированию порочного круга действующей self-парадигмы. Выход из этого цикла возможен лишь при условии восстановления в правах впечатления как творческого процесса, основанного на свободе выбора. Условием освобождения впечатления из тисков self-парадигмы является соответствующая свобода терапевта. Если терапевт способен удивляться происходящему, не стараясь преждевременно придавать ему значение, доступное для понимания, то тем самым он инициирует динамику по выходу за пределы хронической ситуации, определяемой self-парадигмой.
Разумеется, верно и обратное – если терапевт заменяет в процессе терапии живое и творческое впечатление от контакта с клиентом любым способом хронификации контекста поля, например в результате слепого следования принятой в школе стратегии терапии, то он обрекает себя на воспроизводство в терапии результатов, которые когда-то удовлетворили создателей той или иной терапевтической стратегии. И это в лучшем случае; в худшем – он продолжает двигаться с клиентом внутри замкнутого цикла хронической ситуации, зачастую становясь актером спектакля, разыгранного self-парадигмой клиента.
Философия психотерапии постмодерна
От морали к этике – на пути цинизма
К категориям морали, этики и цинизма
На протяжении тысячелетий существование, развитие культуры и цивилизации опирается на ценности, правила и убеждения, разделяемые большинством людей и входящие в структуру важнейшей культурной категории – морали [58]. Более того, динамика человеческой цивилизации неотделима от моральной динамики общества, развитие цивилизации и морали взаимно определяют друг друга. Понятие этики в настоящее время в обыденном сознании является синонимом категории морали, часто они заменяют друг друга. Что касается более узкого научного (или философского) значения категории этики (греч. ethika, от ethos – обычай, нрав, характер) [59], то она определяет специфическую философскую дисциплину, изучающую мораль, нравственность [Большой энциклопедический словарь, 1998, с. 1415]. Дополнительная философская категория «этикет» (франц. etiquette) обозначает «установленный порядок поведения где-либо» [Большой энциклопедический словарь, 1998, с. 1415].
Формулирование и развитие идеи, лежащей в основе настоящей статьи, мне бы хотелось предварить введением в категориальный аппарат данного культурального анализа еще одного понятия, а именно – цинизма. Современная нам эпоха (ее еще иногда называют эпохой постмодерна, т. е. следующей за модерном), по общераспространенному мнению, характеризуется цинизмом, который к настоящему времени пропитал все сферы жизни и деятельности человека. В некотором смысле мы живем сегодня в эпоху цинизма. Однако в настоящее время мы имеем лишь определение этого понятия, появившееся еще в древности и оставшееся нам в наследство от эпохи модерна: «Цинизм (от греч. kynismos – учение киников), нигилистическое отношение к человеческой культуре и общепринятым правилам нравственности» [Большой энциклопедический словарь, 1998, с. 1335]. Большой Энциклопедический Словарь отсылает нас при этом также к понятию «аморализм», которое предполагает «отрицание моральных устоев и общепринятых норм поведения в обществе, нигилистическое отношение ко всяким нравственным принципам» [Большой энциклопедический словарь, 1998, с. 45]. Как видим, общим для обоих определений является словосочетание «нигилистическое отношение», производное от понятия нигилизм [60](от лат. nihil – ничто), которое обозначает «отрицание общепринятых ценностей: идеалов, моральных норм, культуры, форм общественной жизни» [Большой энциклопедический словарь, 1998, с. 804]. Согласно БЭС нигилизм получает особое распространение в кризисные эпохи общественно-исторического развития [Большой энциклопедический словарь, 1998].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу