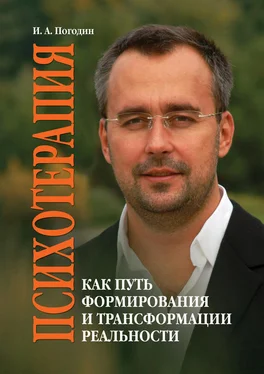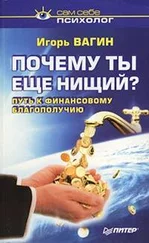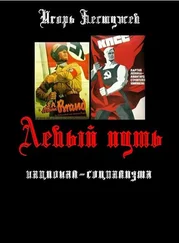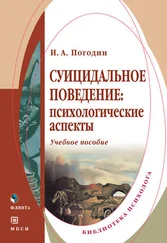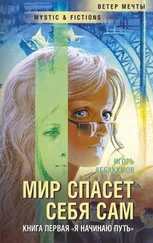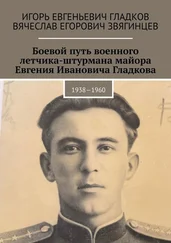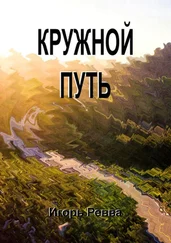Спонтанная прегнантная динамика в поле
Фундаментальный тезис о свободной спонтанной динамике феноменологического поля как основании диалогово-феноменологической психотерапии накладывает свой отпечаток также и на привычные для гештальт-терапии представления о прегнантности. Так, зачастую в своей практике гештальт-терапевт рассматривает соотношение фигуры и фона как некое более или менее стабильное образование, которое может быть фиксировано, по крайней мере, в рамках одной терапевтической сессии. Этот взгляд в полной мере находит свое отражение в концепции цикла контакта, выступающей одним из оснований психотерапевтической практики гештальт-терапевта. Однако если исходить из понимания природы феноменологического поля, такой взгляд был бы попросту невозможен. Феноменологическая динамика, соответствующая процессу переживания, в отличие от концептуализации, не поддается никакого рода управлению и контролю.
Сказанное имеет отношение также и к прегнантной динамике – соотношение фигуры и фона может меняться в течение одной терапевтической сессии. Более того, оно может меняться достаточно много раз. Противоприродной для поля была бы попытка выделить в начале терапевтической сессии фигуру на фоне в виде той или иной актуальной потребности и далее в течение часа по умолчанию предполагать, что это соотношение неизменно. И если терапевтический запрос клиента звучит определенным прегнантным образом, то уже через минуту процесса, основанного на переживании, ни от запроса, ни от соответствующего ему прегнантного соотношения может не остаться и следа.
Однако свободная прегнантная динамика не означает хаотичную смену феноменов в недифференцированном поле. Фигура на фоне есть всегда! Всегда один из феноменов ярко появляется в поле, определяя его динамику. При этом все другие феноменологические элементы контекста обуславливают его смысл. Собственно говоря, прегнантная динамика и есть феноменологическая динамика поля. И интервенции терапевта, сопровождающего процесс переживания, разумеется, строятся с учетом этого обстоятельства. В центре интервенции находится, как я уже отмечал, целостный контекст, который феноменологически формируется вокруг фигуры.
О значении свободного выбора для построения интервенции
Значение категории выбора и соответствующего ему свободного акта для психотерапии, фокусированной на переживании и основанной на теории поля, переоценить не просто трудно, а практически невозможно. Метафорически выражаясь, свободный выбор является двигателем того психологического транспорта, который осуществляет свои рейсы в направлении первичного опыта. То есть если переживание – это процесс, в котором мы приближаемся в ходе психотерапии к первичному опыту – источнику формирования поля, то свободный выбор энергетически питает его. Нет выбора – нет переживания. Нет переживания – поле перманентно коллапсирует к структуре, определяемой self-парадигмой.
Применительно к проблеме выбора я бы хотел выделить несколько основных тезисов. Первый имеет отношение к сущности построения интервенций в психотерапии переживанием. Интервенция, претендующая на поддержку переживания, может быть только выбранной. Этот тезис отсылает нас к самим основаниям терапевтической работы. Если мы приняли решение, основываясь на своих знаниях и гипотезах, сделать ту или иную интервенцию, она не произведет и незначительной части того терапевтического эффекта по сравнению с ситуацией, если бы мы выбрали предпринять ту или иную интервенцию. При этом содержание интервенции вторично по отношению к этой альтернативе. Выбранная интервенция терапевтична уже самим тем фактом, что она выбрана. Если усилить этот тезис, отмечу, что терапию делает собственно акт выбора. Именно он оказывается целебен. Одна и та же интервенция (вплоть до цитаты), выбранная или обоснованная в процессе принятия решения, произведет принципиально разный эффект в смысле возможности поддержать процесс переживания. Интервенция, которая появилась как решение, может претендовать лишь на концептуальную трансформацию терапевтического контекста. Выбранная же интервенция поддержит процесс переживания, тем самым внесет инновации в жизнь клиента. А возможно, и в жизнь самого терапевта.
Второй аспект принципа о примате выбора имеет отношение не столько к процессу и основаниям построения терапевтических интервенций, сколько к диалектике содержания жизни человека и выбора этого содержания. Привычным образом мы думаем, что содержание нашей жизни определяет предпринимаемые нами выборы. Но это лишь концептуальная привычка, представляющая собой фундаментальную полевую ошибку. Я полагаю, что именно выбор определяет содержание нашей жизни. И если эта ответственность и нагрузка с него снимается, что в обыденной жизни мы можем замечать постоянно, его место занимает некий устойчивый конгломерат концепций, который в диалогово-феноменологической модели терапии называется self-парадигмой. В итоге – содержание жизни вращается в замкнутом концептуальном круге. Оно как бы тиражируется, создавая иллюзию динамики, некий ее суррогат. Одна и та же феноменологическая картина поля повторяется множество раз, создавая эффект движения. На самом же деле вас уже нет, есть устаревшая картинка, позволяющая не провалиться в ужас бездонной пропасти несуществования.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу