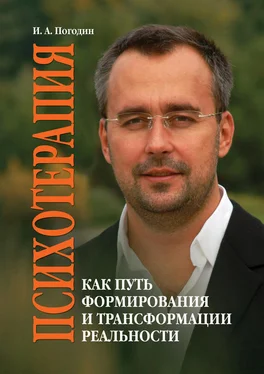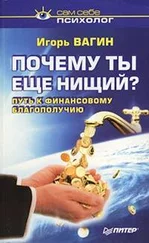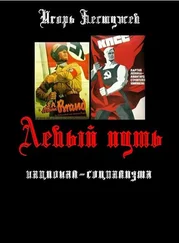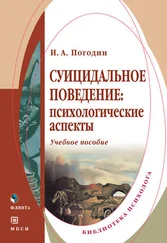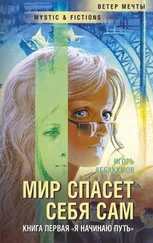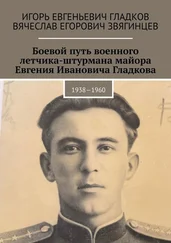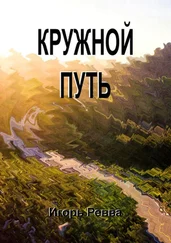По мнению Р. Декарта и вслед за ним М.К. Мамардашвили, по-настоящему мыслить можно лишь несколько часов в году. Они говорили о титаническом усилии мысли, которое чем-то, по всей видимости, родственно усилию Жить в диалогово-феноменологическом подходе [И.А. Погодин, 2001]. Под фасадом мысли может прятаться лжемысль – типичное для человека рациональное суждение, питаемое принудительной валентностью. Иначе говоря, та или иная ригидная концепция, которая не меняется годами, десятилетиями или столетиями. Когда человек произносит фразу «я думаю, что…», это еще не означает, что в данный момент он мыслит. Чаще всего он апеллирует сейчас к устоявшемуся ментальному конструкту, который выручал его, а может, еще и его предков, на протяжении довольно длительного времени. Этот конструкт закрепился в поле, выполняя ту или иную свою функцию [13]. Теперь он подкреплен еще и действием принудительной валентности. Таким образом «мышление человека» зачастую оказывается фиксировано в замкнутом круге отказа переживать.
Настоящая же мысль-феномен предполагает динамику, индуцированную естественной валентностью. Она неповторима и приходит, как правило, очень неожиданно, заставляя человека впечатляться ею. Мысль рождается только в эту секунду, только в этой уникальной ситуации поля. Именно в этот момент человек рождается как человек. И только в этот момент он живет. Разумеется, для этого требуется определенное мужество – мужество Быть, мужество появиться.
Творчество переживания в динамике мыслительных процессов
Фундаментом диалогово-феноменологической психотерапии является концепция переживания, природа которого предполагает сосуществование двух разнонаправленных векторов – творческого и приспособительного (адаптационного). Причем творческий вектор отвечает за постоянное создание реальности, в которой мы живем, а адаптационный позволяет приспосабливаться к ней. Применительно к процессу мышления это означает, что мысль является продуктом процесса переживания, инициированного динамикой отношений творчества и приспособления. От этой динамики и будет зависеть степень оригинальности появившейся мысли.
Возвращаясь к проблеме инноваций в науке, философии и искусстве, отметим, что творческий вектор переживания активизирован у гениев в большей степени, чем адаптационный вектор. Поэтому они в некотором смысле пребывают в поле/реальности, радикально отличной от реальности обывателя или даже просто талантливого человека. Здесь мы подходим к грани, которая лежит в основе дифференциации «психически больного» и «нормального» человека, отделяя «безумие» от «психического здоровья». Этой гранью является факт разделенности реальности. Сумасшедшим мы обычно называем такого человека, который пребывает в неразделяемой реальности. Основанием для формирования разделяемой и неразделяемой реальности является сама природа переживания. Творческий вектор переживания в виду его первичности определяет психические процессы на начальном этапе жизни человека. Адаптационный вектор требует большего или меньшего времени для своего формирования, условием которого выступает наличие других людей, с которыми человек находится в отношениях. С течением времени адаптационный вектор переживания становится все сильнее, с одной стороны, стабилизируя психическую жизнь человека, с другой, хронифицируя ее в рамках self-парадигмы. Побочным продуктом этого процесса является неизбежное ущемление в правах творческих интенций. Реальность становится все более предсказуемой, но все менее живой.
Что же происходит в том случае, если условия жизни человека окажутся не подходящими для формирования адаптационного вектора, например при отсутствии значимых отношений с агентами реальности, каковыми обычно выступают близкие родственники, друзья, воспитатели, педагоги и др.? Адаптационный вектор переживания просто не формируется в достаточной степени, чтобы отражать разделяемую окружающими людьми реальность. Творческий вектор вынужден взять на себя всю нагрузку психической жизни, что, разумеется, не может не вызвать серьезную тревогу у человека. Кроме всего прочего, эта тревога может быть многократно усилена сегрегационным по отношению к «безумию» характером современной культуры. В результате творческие интенции переживания, смешиваясь с чрезмерной для него тревогой, формируют self-парадигму, не разделяемую больше никем, что, в свою очередь, еще более усиливает тревогу, которая доводит психическую деятельность до дезорганизации. В результате мы имеем «феноменологию психотических и пограничных расстройств».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу