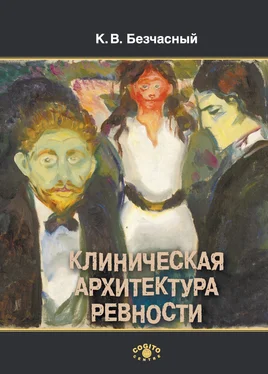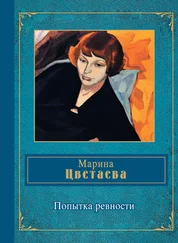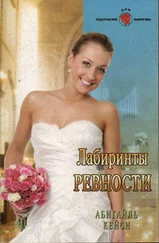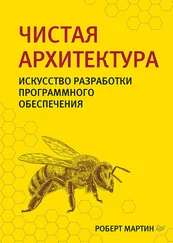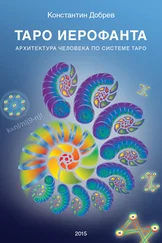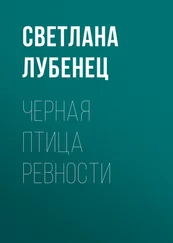Другой представитель патристики, Григорий Богослов говорит о том, что если ревность сложно оправдать, то ее легко простить: «Любовь… бывает весьма горяча и неистощима в обвинениях, когда превращается в ревность, оскорбившись неожиданным пренебрежением. Ежели кто из вас был уязвлен любовью и испытал презрение, то он знает силу этой страсти и простит тех, которые подверглись ей и были близки к такому же безумию» (Григорий Богослов, 2000, т. 1, с. 653). Извинительность ревности, впрочем, не отменяет ее анормальности, того, что Григорий Богослов определял в качестве «безумия, вызванного пренебрежением в любви» (там же).
Фома Аквинский в «Сумме теологии» писал о супружеской ревности в связи с теорией естественного закона. Отталкиваясь от того, что все противоречащее естественным желаниям, противоречит и естественному закону, он утверждал, что ревность – это нормальное чувство, поскольку его можно обнаружить повсеместно. Философ определял ревность как «нетерпимость по отношению к тому, чтобы делить с кем-либо любимого человека». Основываясь на таком подходе, он указывал на «функциональность» ревности в семейных отношениях, ее охранительное значение: даже повсеместное распространение ревности служило для него аргументом «от естественного закона» в пользу моногамии. Хотя ревность и признавалась необузданной страстью, полное отрицание ревности, по мнению мыслителей Средневековья, привело бы к отрицанию любви и разрушению крепости семейных уз. Предполагалось, что нравственные оценки ревности необходимо ставить, только учитывая определенные формы ее проявления, и эти оценки могли варьироваться от осуждения до частичного оправдания (или прощения).
В эпоху Возрождения рассмотрение любви и ревности в одной связке было продолжено. Джордано Бруно в труде «О героическом энтузиазме» выделял две разновидности любви – вульгарную, или чувственную, и духовную, или героическую. Причем последний вид любви отличался от первого нравственной наполненностью. Духовно любит тот, кто не просто ценит красоту или характер любимого, но тот, кто еще при этом желает ему добра. Одним из критериев разделения видов любви является ревность, понимаемая как «извращенная страсть». Она определяет чувственную любовь, но отсутствует в героической: «Тот не любит вульгарно, кто не ревнив и не робок перед любимым» (Бруно, 1996, с. 176). Таким образом, восхождение к героической любви проходит через преодоление ревности: здесь Дж. Бруно возрождал античные идеалы этики стоицизма, вплетая их в свои в целом платонические рассуждения.
Эразм Роттердамский, достаточно скептически относясь к крепости брачных уз, говорил о важности незнания в общественной жизни: заблуждения, доверие и лесть, по его мнению, прочнее связывают отношения, чем горькая правда и знание истинных мыслей тех, кто нас окружает. Заблуждение, конечно, нельзя назвать идеалом для семейных отношений, «но насколько лучше так заблуждаться, нежели терзать себя ревностью, обращая жизнь свою в трагедию?» (Роттердамский, 2007, с. 287).
Более широкое понимание ревности находим у Мишеля Монтеня, который диалектически подходил к страстям, подчиняющим себе человека, считая их платой за рациональность, чувствами, необходимыми для уравновешивания холодного разума: «Наш удел – это непостоянство, колебания, неуверенность, страдание, суеверие, забота о будущем, а значит, и об ожидающем нас после смерти, – честолюбие, жадность, ревность, зависть, необузданные, неукротимые и неистовые желания, война, ложь, вероломство, злословие и любопытство… Да, мы несомненно слишком дорого заплатили за этот пресловутый разум, которым мы так гордимся, за наше знание и способность суждения, если мы купили их ценою бесчисленных страстей, во власти которых мы постоянно находимся» (Монтень, 1996, т. 1, с. 615).
В целом в работах Дж. Бруно, Э. Роттердамского, М. Монтеня и других представителей этико-философской мысли Возрождения ревность обозначалась как проблема и рассматривалась с точки зрения категории морального зла. Она понималась как сложное и противоречивое этико-психологическое состояние, каждый раз раскрывающее какие-то новые смыслы. И если для Средневековья были характерны более или менее четкие и однозначные оценки ревности, то для эпохи Возрождения возможность однозначного понимания ревности стала менее очевидной.
Ревнивый – достаточно устойчивая характеристика, она является не менее сложной и многослойной, чем сама человеческая натура. В этом смысле Возрождение воскресило многие идеи, ранее присутствовавшие в античной философии – у платоников, скептиков, стоиков и т. д. Новое время предлагало основательные попытки классификации чувств, находя для каждой особое место и логическое обоснование. В трактате «Страсти души» Рене Декарт определял ревность как «вид страха, связанный с желанием сохранить за собой обладание каким-нибудь благом; она основывается не столько на силе доводов, убеждающих в том, что его можно потерять, сколько на его высокой оценке. Эта высокая оценка побуждает учитывать малейшие основания для подозрения, которые в данном случае превращаются в очень важные» (Декарт, 1989, т. 1, с. 587).
Читать дальше