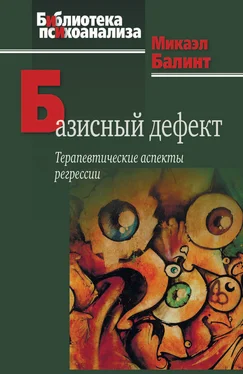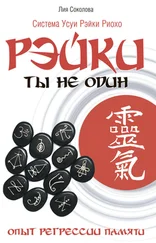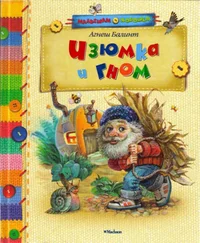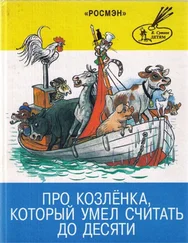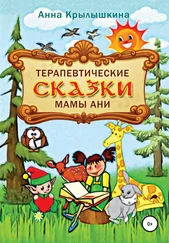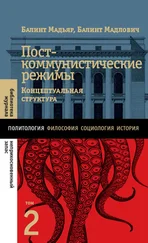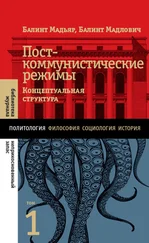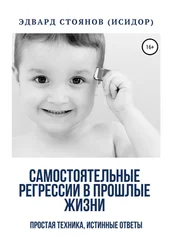Мы, аналитики, часто оказываемся в похожей ситуации. Мы предлагаем нашим пациентам ясную, немногословную, обоснованную, своевременную интерпретацию, которая – к нашему удивлению, отчаянию, раздражению и разочарованию – нередко либо не оказывает влияния на пациента, либо оказывает совсем не то воздействие, которое предполагалось. Другими словами, наша интерпретация бывает абсолютно непонятной или даже совсем не воспринимается как интерпретация. Обычно аналитик в целях самоуспокоения прибегает к попыткам рационализации возникающего в результате разочарования; при этом возможны три варианта рассуждений. Аналитик может осуждать себя за ошибку, которую он допустил в определении наиболее важной тревоги в данной ситуации – дескать, он пошел по ошибочному пути, интерпретируя то, что имело второстепенное значение. Вслед за этой самокритикой обычно следуют безумные попытки угадать, что же именно в фантазиях пациента встало преградой на пути понимания интерпретации аналитика. Затем аналитик может реанимировать в себе извечную полемику по поводу относительных достоинств или недостатков интерпретаций содержания материала, защиты или переноса, которая может продолжаться бесконечно. И, наконец, он может успокоить себя, уверившись в том, что сопротивление пациента в данный момент было слишком сильным и поэтому ему, видимо, потребуется значительное время для того, чтобы «проработать» его. Эта последняя формула является самой эффективной, поскольку сам Фрейд в свое время прибегал к ней.
К сожалению, эти формулы самоуспокоения и рассуждения здесь неуместны, так как все они принадлежат эдипову уровню, а это значит, что во всех вариантах подразумевается, что пациент воспринимает интерпретацию аналитика именно как интерпретацию, а не как нечто другое. Именно для такой ситуации Фрейд предложил термин «проработка». Очевидно, что проработка возможна только в той степени, в какой пациент способен принять интерпретацию как интерпретацию и позволить ей оказать влияние на свою психику. В отношении «глубоко нарушенных» пациентов это неочевидно. Процесс проработки невозможен, если для пациента интерпретация аналитика не является интерпретацией, то есть фразой, состоящей из слов, обладающих общепринятым значением. Проработка может произойти только в том случае, если слова имеют приблизительно одинаковое значение как для наших пациентов, так и для нас самих.
На эдиповом уровне такой проблемы не существует. Пациент и его аналитик уверенно общаются на одном языке, одни и те же слова имеют для них примерно одинаковое значение. Конечно, пациент может отвергать интерпретацию, может быть раздражен, напуган или задет ею, но в этом случае нет сомнений в том, что это была именно интерпретация .
Третий ответ на вопрос, с которого мы начали, заключается в констатации существования двух разных уровней аналитической работы, и в то же время он ставит нас перед новыми интересными проблемами. Прежде чем перейти к рассмотрению этих проблем, давайте оглянемся на пройденный нами путь из того пункта, где мы сейчас находимся. Мы начали с вывода – или трюизма, – гласящего, что даже наиболее опытные из нас порой имеют дело с трудными или даже очень трудными пациентами. Затем мы поставили перед собой следующие вопросы: что представляют собой терапевтические процессы, в каких областях психики они протекают, что именно в этих процессах является причиной затруднений; и, наконец, последнее, но не менее важное – какими техническими средствами мы можем оказывать на них влияние. Далее мы рассмотрели современные теоретические основания нашего метода и пришли к выводу, что топологический подход не оказался особо эффективным. Двигаясь дальше, мы поняли, что все наши представления о том, что происходит в психике пациента во время терапии, основаны на результатах тщательного исследования – инициированного самим Фрейдом в начале 20-х годов – пациентов, которые могут принять и «понять» интерпретации аналитика как интерпретации и которые способны к «проработке». И, наконец, мы увидели, что есть по крайней мере два уровня аналитической работы, откуда можно сделать вывод, что и терапевтические процессы протекают на двух уровнях. Одним из аспектов различия между ними является степень, в которой язык взрослых людей может быть пригоден для работы на каждом из этих уровней.
Ференци, в частности, в своем последнем докладе на Конгрессе (1932) и в посмертно опубликованных «Заметках и фрагментах» впервые описал это важное отличие, касающееся использования языка, которое может привести к образованию пропасти между пациентом и аналитиком, а также препятствовать прогрессу в терапии. Он назвал это «путаницей языка ребенка [в единственном числе!] и взрослых [во множественном числе!]». С тех пор – хотя обычно без ссылки на его новаторские работы – разными исследователями было предпринято несколько попыток описания вышеупомянутых феноменов.
Читать дальше