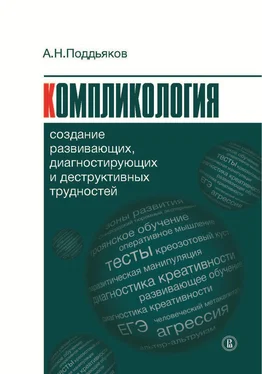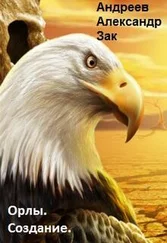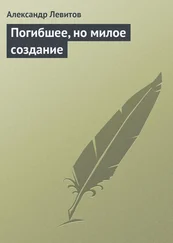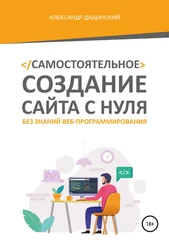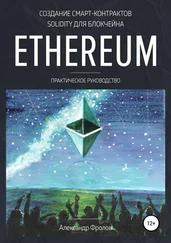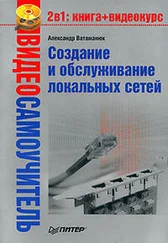Таким образом, уже в животном мире можно найти предмет интереса и негативной компликологии, изучающей создание трудностей с деструктивными целями, и позитивной, изучающей создание трудностей с конструктивными целями.
Отдельный вопрос – могут ли животные создавать и использовать такие «пробы трудностями», которые преследуют конструктивную цель помощи тому, чей статус диагностируется испытанием? Иными словами, можно ли в поведении животных найти предпосылки того, что в человеческом взаимодействии трансформируется: а) в так называемые нагрузочные пробы в медицинской диагностике – физически тяжелые для пациента испытания, организуемые врачом с целью подбора последующего лечения болезни (например, велоэргометрическая проба – интенсивные испытания на велоэргометре при болезни сердца; сахарная проба – разовый прием большого количества сахара натощак при диагностике некоторых заболеваний и т. д.; эти пробы в некоторых случаях могут и ухудшить состояние); б) в исходную диагностику обучаемого перед обучением, осуществляемую с помощью специально подобранных задач и т. д.
Возможно, биологи и зоопсихологи могли бы подсказать, какие ситуации взаимодействия животных можно было бы трактовать как предпосылки такой деятельности, «опробующей трудностями» с целью последующей помощи тому, кого опробовали. Мы не смогли их обнаружить. [6] А. В. Марков, автор книги «Рождение сложности. Эволюционная биология сегодня: неожиданные открытия и новые вопросы» (М.: Астрель, 2012) на мой запрос ответил следующее: «Видимо, один из очень немногих примеров создания диагностирующих трудностей у животных с целью последующей “помощи” относится к “помощи в воспроизводстве”. Это ситуации, когда особи одного пола (обычно самки) создают разнообразные “диагностирующие трудности” и испытания особям другого пола, чтобы выбрать брачного партнера». Вопрос в том, можно ли считать это поведение одним из переходных мостиков к деятельностям человека по тестированию нового ученика задачами разной трудности, чтобы лучше его учить; нагрузочных медицинских проб, чтобы лучше лечить, и т. п. – аналогов этих форм поведения у животных нет.
Представляется обоснованным следующее предположение: здесь проходит один из водоразделов между животными и человеком, и данную сложную диагностическую деятельность – организацию трудных испытаний для последующей помощи – способен планировать и осуществлять только человек, причем начиная лишь с определенных этапов развития культуры .
5. Деструктивные трудности в человеческой деятельности
Целями создания деструктивных трудностей является нанесение того или иного ущерба. В системе более общих установок субъекта, создающего деструктивные трудности, последние могут быть выражением «злокачественной агрессии», по Э. Фромму, или «бескорыстного зла», по С. Лему, [7] Он использовал понятие бескорыстного зла, анализируя ситуации, в которых одни люди по своей инициативе наносят ущерб другим людям (вплоть до их массовых убийств), не получая от этого никакой выгоды или даже неся некоторый ущерб (причем речь не идет о садистском удовольствии, получение которого можно было бы считать эгоистической, корыстной целью). С. Лем считал, что недооцененное и малоизученное стремление творить бескорыстное зло играет важную роль как в человеческих отношениях, так и в развитии цивилизации [Лем, 2002].
а также психологически более понятного эгоизма, связанного с извлечением пользы для себя. Но создание деструктивных трудностей может быть выражением и альтруистических установок – альтруизм здесь проявляется по отношению к третьей стороне, нуждающейся в защите.
5.2. Эгоистическое создание трудностей
Убийство невиновного с целью последующего грабежа – деяние, однозначно осуждаемое в сколько-нибудь развитых этических традициях. То же относится к кражам. Помимо этих и других аморальных деяний, рассматриваемых современным законодательством как преступления против личности и собственности человека, разные люди совершают немало эгоистических поступков, направленных на создание трудностей для другого, хотя и не наказуемых юридически. Приведем пример из книги Д. Дернера. «Я размышляю о факультетском собрании, тема которого (речь шла о распределении помещений) вызвала горячую схватку. Коллега А несколько жестко, почти оскорбительно, прошелся по поводу коллеги В . На это крайне резко возразил С , дружащий с В , нагрубив А . Внезапно «логика» происшествия прояснилась для меня. А несколько грубо обошелся с В , после чего С оскорбил А . Это произвело удручающее впечатление на других участников собрания. С выглядел сверхагрессивным, в итоге – неприятным. В результате шансы С провести свое слабо обоснованное предложение резко снизились. Это могло бы удаться только при благосклонности большинства, но она была разрушена самим С . Предложение С , однако, шло вразрез с интересами А ! При известной склонности С к бурным реакциям, тонко организованная и продуманная маленькая стратегическая диверсия А очень элегантно достигла своей цели! Описанное происшествие подчинено определенному, хорошо известному образцу дискуссионной стратегии (“Разозли своего противника, тогда он совершит что-нибудь необдуманное!”)» [Дернер, 1997, с. 124–125].
Читать дальше