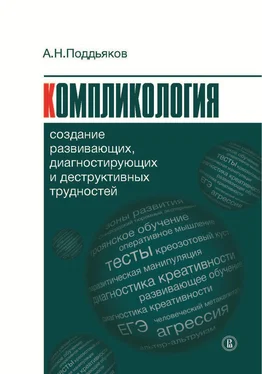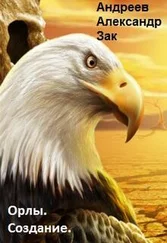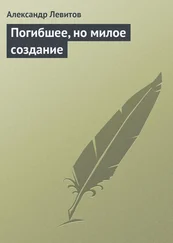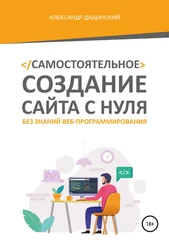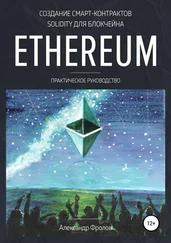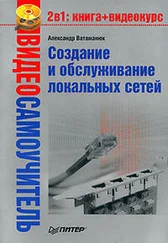Женщина, ребенком пережившая Великую Отечественную войну, описывает следующую ситуацию, окончившуюся благополучно для нее и ее семьи (но не для многих других участников). В 1941 г. она, тогда восьмилетняя девочка, ее трехлетняя сестра и их мать отправились в эвакуацию в составе каравана судов. Женщина помнит, что во время начавшегося расстрела каравана немецкими самолетами было потоплено впереди идущее судно. Еще она запомнила кровавые следы от ногтей на ладонях своей матери – та очень сильно сжимала руки во время бомбежки. К счастью, их судно уцелело. Значительно позднее мать рассказала своим уже взрослым дочерям, что увидев гибель кораблей, она начала мучительно просчитывать, кого из девочек – младшую или старшую – спасать, если их судно начнет тонуть, поскольку обоих детей она бы не вытянула. Иначе говоря, она взялась планировать трагическое альтер-альтруистическое решение.
Взгляд на действия своих и чужих альтер-альтруистов часто противоположен, и это естественно.
Так, выжившая участница этой ситуации говорит, что несколько лет назад она с особым чувством смотрела телевизионный репортаж: немецкий писатель написал литературное произведение большой художественной и обличительной силы, посвященное самому известному нападению советской подводной лодки С-13 под командованием А. И. Маринеско на крупнейший немецкий лайнер «Вильгельм Густлофф». Лайнер эвакуировал офицеров – цвет военного флота рейха, их жен и детей в конце войны. Эту книгу она не читала и с видимой отстраненностью говорит, что не берется судить, насколько верны комментарии журналистов о том, что писатель обличает действия капитана подводной лодки. В любом случае смерть этих детей ужасна, это правда, здесь нет слов. Она и ее семья знает, что значит попасть под обстрел на корабле. Но, возможно, ситуация с немецкими детьми сложилась бы иначе, если бы коллеги этих офицеров, а может, и они сами несколькими годами раньше не уничтожали суда с чужими детьми. И добавим: если бы в 1941 г. не был потоплен теплоход «Армения» с тысячами советских беженцев на борту, если бы бесчисленное количество детей не были в ходе развязанной войны убиты осознанно и целенаправленно: расстреляны, задушены газом, сожжены живьем во имя целей корыстного и бескорыстного зла.
Обратимся здесь к другому литературному произведению с описанием событий того периода. Заместитель коменданта концлагеря в романе С. Лема «Осмотр на месте», имевший среди прочего хобби выбирать из заключенных тех, у кого кожа на спине лучше подходит для прижизненной татуировки и последующего снятия с трупа, узнав о смерти своих собственных жены и детей под бомбежкой, впадает в отчаяние: «O Gott, O Gott, – повторял он, – и за что на меня свалилось такое несчастье?!» [Лем, 1990, с. 244].
Печально, когда часть общества, и не только немецкого времен Второй мировой войны, словно не знает ответов на такого рода вопросы, хотя они во многом связаны с действиями своих же альтер-альтруистов.
Отдельного рассмотрения заслуживает роль «третейского судьи», или профессионального спасателя, принимающего решение, чьи интересы нужно ущемить ради интересов других субъектов в такой ситуации, когда ущерб кому-то из участников объективно неизбежен при любом решении (и при его избегании!), а любое добросовестное решение может состоять лишь в минимизации потерь при «выборе меньшего зла».
При этом ни судьи, ни спасатели:
а) не дифференцируют участников в отношении их права на спасение (предполагается, что все участники ситуации имеют равные права, но права всех участников невозможно реализовать в силу ограниченности ресурсов спасения);
б) не связаны какими-либо личными предпочтениями и симпатиями (в отличие, например, от матери, принимающей решение, кого из детей спасать);
в) не вовлечены (в отличие, например, от командира отряда) в совместную деятельность с теми, относительно кого они принимают решение;
г) не могут облегчить себе трагический выбор присоединением к потерпевшему субъекту или группе, поскольку обязаны продолжать исполнение своих социальных функций по спасению (или принятию решений).
Единственное, что они могут – выбрать меньшее зло по отношению к невиновным и, вообще говоря, равноправным субъектам. При этом, как подчеркивает А. В. Прокофьев, специально анализирующий эту проблему, сама формула «выбор меньшего зла» указывает на совершенно специфическую логику принятия решений, которая в рамках морального сознания является спорной, а если спор разрешается в пользу ее допустимости, то трагической» [Прокофьев, 2009, с. 122]. В качестве примера можно привести ситуации, когда врачам в больницах надо решать, в кого из пациентов вкладывать имеющиеся ограниченные средства, а кого – оставить; считать ли, что органы умирающего с бьющимся сердцем уже могут быть извлечены и использованы для спасения других людей и т. д. [Хаузер, 2008]. Как пишет А. В. Прокофьев, ситуации, когда ущерб, причиняемый кому-то, оказывается средством предотвращения ущерба множеству других людей, крайне неоднозначны и предельно сложны для абсолютного большинства этических традиций [Прокофьев, 2009, с. 127].
Читать дальше