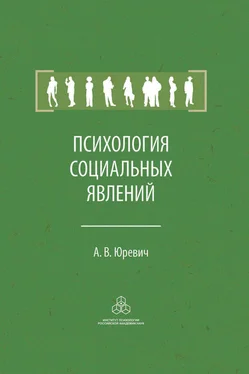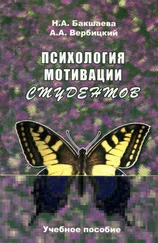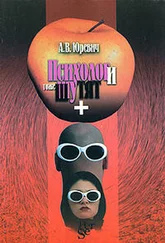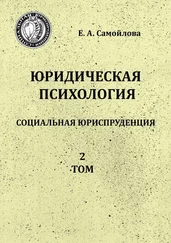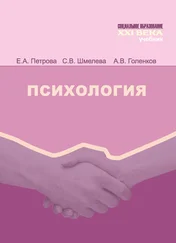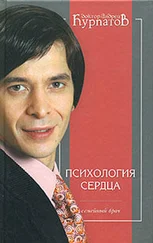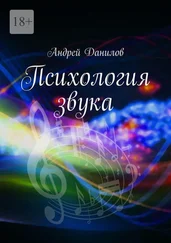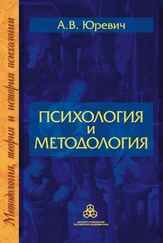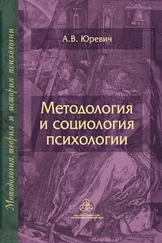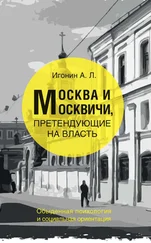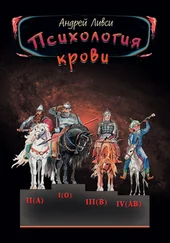Недавно проведенный нами опрос показал, что такое понимание свободы пустило глубокие корни и в студенческой среде, в том числе и среди студентов наших элитных вузов, таких как МГУ, где 18 % опрошенных ответили, что понятия добра и зла имеют для них чисто абстрактный характер (Юревич, Юревич, 2013).
Естественно, есть и исключения. Например, наши элитные вузы, которым пока удается поддерживать более или менее сносную дисциплину, главным образом за счет высокого коэффициента отчисления студентов.
После просмотра большинства современных телепередач создается впечатление, что сейчас в России критериями личного успеха являются богатство и известность, а способы обретения того и другого рассматриваются как не имеющие значения. При этом наблюдается разительный контраст не только с советским обществом, где основным мерилом успеха считался вклад в общее благо, но и с западным обществом, для которого характерна мотивация не коллективного, как в СССР, а индивидуального достижения, культ личного успеха, но достигнутого путем полезной для общества деятельности.
Ярким примером может служить принятый Государственной Думой закон, запрещающий распитие пива и других слабоалкогольных напитков в общественных местах. В данном очень поучительном случае внутренний – нравственный – запрет был переведен во внешнюю форму. То же самое следовало бы осуществить в отношении публичного мата, что уже сделано в некоторых городах России (под насмешки представителей СМИ, плохо понимающих разрушительность воздействия на общество «слабых» форм девиантного поведения), демонстративных оскорблений старших по возрасту и других форм грубого нарушения морали.
Естественно, не только в российском обществе. Так, Дж. Миллер подчеркивает, что главной проблемой поддержания социального порядка сейчас является гармоничное сочетание свободы личности с ее ограничением интересами общества, интеграция свободы и ответственности (Miller, 2005). Отмечается также, что «неразрешимый философский диспут и демаркационная линия между индивидуальной свободой и социальной ответственностью сейчас воспроизводятся и на эмпирическом уровне» (Nunner-Winkler, Edelstein, 2005, p. 22).
Примером может служить идеология «открытого общества», разработанная К. Поппером. В ее рамках свобода человека разумна и ответственна (Поппер, 1992).
К сожалению, по данным кросс-культурных исследований, такие люди во всех выборках составляют меньшинство, т. е. характерным для всех культур является недостижение основной частью их представителей третьего уровня морального развития, – не в этом ли коренится основная причина преступности и других негативных социальных явлений?
В соответствии с этой теорией, человек может использовать несколько моральных схем одновременно (в отличие от стадий, которые заведомо не могут сосуществовать друг с другом).
Многое, конечно, зависит и от характера образования, в частности, от образов общества, которые лежат в основе его социогуманитарной составляющей.
Сильные различия в этом плане существуют и внутри культур в их глобальном понимании. В частности, «еще один аспект проблемы, который нельзя игнорировать при изучении решения моральных дилемм россиянами, заключается в наличии отличительных особенностей в структуре нравственного сознания россиян, принадлежащих к разным этническим группам» (Александров и др., 2010, с. 349). Это замечание распространимо и на большинство других народов.
Существуют и довольно экзотические примеры подобного плана. Так, в одном из исследований показано, что у студентов-медиков на первых курсах обучения уровень морального развития снижается (Patenaude et al., 1999).
«Существуют разные определения морали, – пишет О. А. Гулевич. – Однако, как правило, под ней понимается совокупность норм (требований и запретов), регулирующих отношения между людьми, нарушение которых рассматривается в терминах „хорошо – плохо“, „добро – зло“. Они существуют лишь на уровне представлений их носителей, т. е. не зафиксированы официально, а контроль за ними осуществляют отдельные люди и неформальные объединения» (Гулевич, 2010, с. 52). Согласно Ж. Пиаже, основу морального сознания тоже составляют запреты, определяющие, что «хорошо», а что – «плохо» (Piaget, 1932).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу