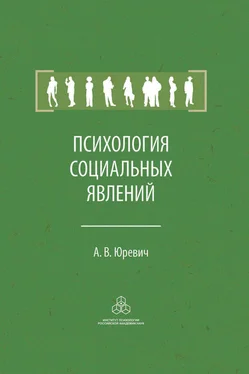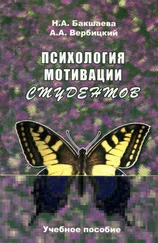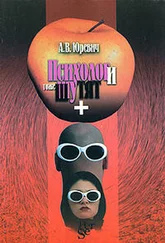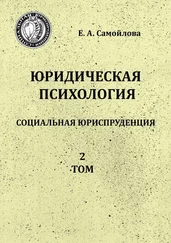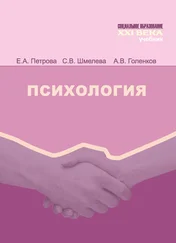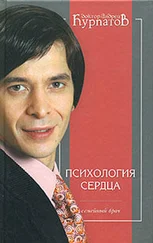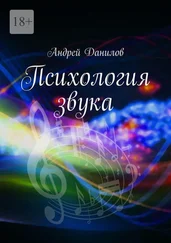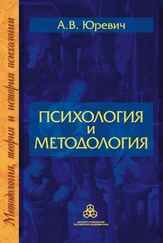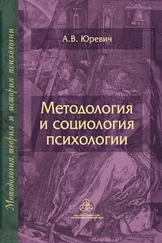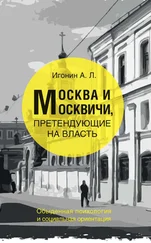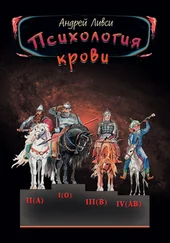Понуждение к соблюдению нравственных норм
Отчетливо выражен кризис и третьего уровня системы поддержания нравственности – уровня понуждения наших сограждан к соблюдению основополагающих нравственных принципов. Здесь тоже очевидна связь с общей идеологией, в частности, с обсуждавшейся выше «либералогемой», согласно которой «запреты неэффективны», а также с псевдолиберальными идеями о том, что человек должен быть во всем свободен и принуждать его ни к чему нельзя. В этом же ряду находится и либералогема «можно все, что не запрещено законом», означающая, что человек имеет право нарушать нравственные принципы, если он при этом не нарушает законы, и принуждать его к их соблюдению – противозаконно. Против этого трудно возразить, однако любое общество стремится придать основополагающим нравственным принципам статус законов [42] Подобные прецеденты имеются и в современной России (например, законы о запрете распития спиртных напитков и курения в общественных местах и т. д.).
, а в тех областях нравственного поведения, которые не регулируются законами, применяются нравственные же меры воздействия, которые могут быть не менее жесткими, чем законы. Так, некоторые китайские чиновники, осужденные за коррупцию, выдержав законодательное наказание, отсидев назначенные им сроки, затем, выйдя на свободу, кончили жизнь самоубийством: «потеря лица» очень существенна для китайской культуры. Уместно вспомнить здесь и то, каким жесткими были «меры морального воздействия» в советском обществе, – в частности, что означало для человека исключение из партии или из комсомола. Понуждение к исполнению нравственных норм особенно актуально в условиях, когда значительная часть населения находится на первой стадии морального развития, по Л. Колбергу, соблюдая их лишь под страхом наказания. Естественно, куда более желателен переход на третью стадию, на которой гражданами добровольно исполняются эти нормы, или хотя бы на вторую, где это происходит из конформности. Соответствующие меры по повышению уровня нравственной социализации тоже необходимо практиковать. Это – т. н. «мягкое» моральное воздействие через систему образования и воспитания. Однако к отказу от существования принуждения современное общество, особенно наше, российское, вопреки псевдолиберальным мифам, пока не готово, и эффективность системы поддержания нравственности во многом зависит от эффективности принуждения к соблюдению ее основ.
Принуждение в демократическом обществе чаще всего выступает в виде самопринуждения, накладывания личностью добровольных ограничений на свою свободу. Поэтому, как пишут Г. Нуннер-Винклер и В. Эдельштейн, в современном мире «социальный контроль теряет силу, а главным условием функционирования социальных систем становится самоконтроль» (Nunner-Winkler, Edelstein, 2005, p. 5). Здесь вновь актуализируется общеидеологический уровень представлений о нравственности и торжествует либеральная мысль о том, каким должен быть социальный контроль в современном мире – не насильственным и реализуемым над человеком извне, а добровольным и самостоятельно осуществляемым им над собой. Но одновременно проявляется и описанное выше отличие подлинного либерализма от псевдолиберализма. Если первый, в отличие от консерватизма, настаивает, что человеку можно доверять и, соответственно, можно доверить ему самому контроль над своим поведением, то второй, в его наиболее радикальных вариантах, призывает к тому, что контроль над человеком вообще не нужен – ни во внешней, внеличностной, ни во внутренней, внутриличностной, форме.
При всей абсурдности этой идеи она очень популярна в некоторых слоях современного российского общества, что в том или ином виде регулярно проявляется в общественных настроениях по поводу наиболее вопиющих нарушений морали.
Вообще ослабление социального контроля над индивидами – и во внешней, и во внутренней форме – является одним из главных маркеров тех социально-психологических изменений, которые наше общество переживает с конца 1980-х годов, причем многие, и отнюдь не только псевдолибералы, воспринимают это ослабление с восхищением, именно в нем видя путь к свободе и демократии. При этом допускается очередная ошибка, основанная на непонимании того, что истинная и единственно возможная свобода – не утопичная и безответственная, а та свобода, которую общество может себе позволить. Она предполагает не полное снятие социального контроля над личностью, а лишь его интериоризацию, перевод из внешней во внутриличностную форму.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу