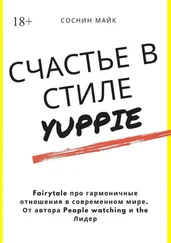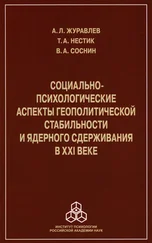Обобщение результатов эмпирических исследований
Поскольку реальное эмпирическое изучение личности террористов возможно только «постфактум», т. е. тогда, когда преступное деяние террористического характера совершено, а исполнители остались живы и задержаны, то эти исследования, как правило, проводятся в структурах правоохранительных органов и зачастую являются закрытыми или полузакрытыми. А исследования, проводимые специалистами, не принадлежащими к структурам правоохранительных органов, как правило, осуществляются с большим «временным лагом» и сильно ограничены в своей исследовательской базе (интервью, если бывшие террористы соглашаются, мемуары и т. п.).
«Чистых» эмпирических исследований терроризма в психологической науке очень мало. Можно назвать отдельные работы, в которых изучалось отношение к терроризму (представления о терроризме) в связи с индивидуально-психологическими особенностями личности респондентов (см., например: Батуева, 2007; Короткина, Княгинина, 2007). Эмпирические исследования на социально-психологическом уровне фактически отсутствуют.
Рассмотренные выше типологические модели личности террористов, предложенные исследователями для объяснения мотивации вступления на путь терроризма, до настоящего времени являются, скорее, теоретическими гипотезами. Попытаемся соотнести представленные выше модели с имеющейся эмпирической исследовательской практикой.
Кратко обозначим особенности и некоторые результаты эмпирических исследований личности террористов, их мотивации в зарубежной исследовательской практике и открытых (крайне ограниченных) результатов исследований, проводимых в структурах отечественных правоохранительных органов.
Необходимо подчеркнуть, что сравнительные исследования психологии террористов не обнаружили у них особой личностной психопатологии (Post, 1984). В 1960-е годы М. Криншоу исследовала террористическую деятельность членов Национального фронта освобождения Алжира (NLFA) и пришла к выводу, что «самой общей характеристикой террористов является их нормальность» (Crenshaw, 1981). Аналогичные результаты получил К. Хескин, который опрашивал членов Ирландской республиканской армии (IRA): в целом эмоционально неустойчивых людей или людей с расстройствами среди них обнаружено не было (Heskin, 1984).
В аналитическом обзоре социальной психологии террористических групп К. Маккули и М. Сигал пришли к заключению, что «наиболее хорошо задокументированное обобщение, которое можно сделать, приводит к негативному выводу: террористы не обнаруживают какой-либо явной патологии» (McCauley, Segal, 1987).
Сравнительные исследования также не выявили конкретного психологического типа личности террориста, конкретного набора личностных характеристик, типа мышления террориста. Хотя на путь терроризма вступают разные типы личностей, анализ воспоминаний бывших террористов, судебных материалов над осужденными террористами и редкие интервью с ними позволяют предполагать, что людей с особенными личностными чертами и тенденциями среди террористов диспропорционально мало (Post, 1984, p. 27).
Каковы же эти особенные личностные характеристики, присущие личности террористов?
Ряд авторов охарактеризовали террористов как агрессивных людей, которым не хватает острых ощущений (Analysenzum Terrorismus, 1981, т. 2). Многие террористы страдают пограничными личностными расстройствами или психологическими защитными механизмами экстернализации и расщепления. Специалисты подчеркивают, что эти мотивационные механизмы обнаруживаются с достаточно большой частотой у обследованных террористов и, естественно, благодаря этим механизмам возникает впечатление одинаковости демонстрационного стиля поведения террористов.
Считается, что наиболее важным для понимания поведения террористов является механизм «психологического расщепления». Эта характеристика типична для людей, у которых личностное развитие обусловливается конкретным типом психологического травмирования в период детства. Это приводит к формированию такого личностного качества, которое клиницисты называют «нарциссические раны» или к развитию так называемой «ущербной личности» (Kohut, 1983).
Индивиды с травмированной Я-концепцией не могут полностью интегрировать «хорошие» и «плохие» характеристики своего Я. Я-представления «ращеплены» на дихотомичные категории «мое», «Я», и «не мое», «не-Я» (т. е. хорошее – мое, а плохое – не мое, а принадлежит другим людям). Индивид с такой личностной структурой идеализирует свое «грандиозное» положительное Я и проецирует на внешнее окружение все свои отрицательные характеристики и проблемы, «слабости» внутри себя самого.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
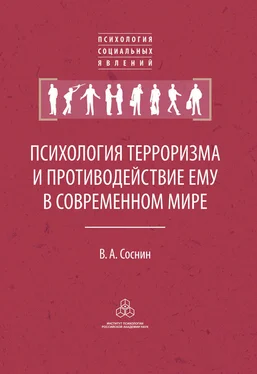
![Евгений Примаков - Россия в современном мире. Прошлое, настоящее, будущее [сборник]](/books/27003/evgenij-primakov-rossiya-v-sovremennom-mire-proshlo-thumb.webp)