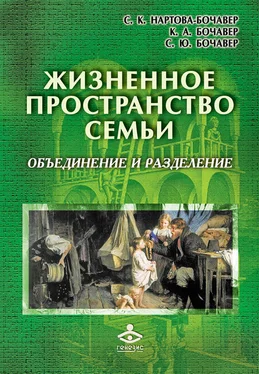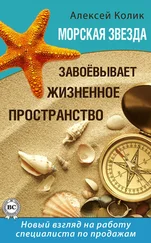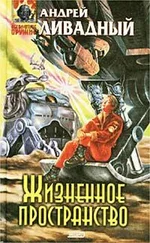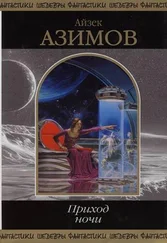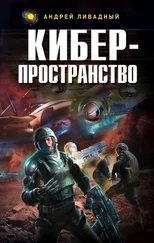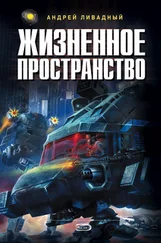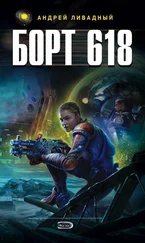Однако для нас, людей, характерно чрезмерно пристальное внимание именно к словесным посланиям, ведь «слово – это поступок». Во многом это связано с развитием философских представлений о том, что важнее – сознание или бытие.
На протяжении многих тысячелетий человеческой истории, особенно дохристианской, предмет и мысль об этом предмете, а также слово для его обозначения не разделялись. Сам человек как автор своей мысли, то, о чем он думает, и его отношение к этому предмету сливались воедино; совершенно отдельные события интерпретировались как связанные, если так казалось человеку. Особенно ярко это выражалось в разного рода мистических и мантических (гадательных) практиках. Для архаичного охотника было естественным попросить свою жену не умащивать свое тело и не расчесывать волосы во время его отсутствия, потому что иначе пойманная косуля выскользнет из силков или порвет их: связь между этими событиями была бесспорной. И, что примечательно, жена с ним соглашалась. То есть два «объективных» события, никак не связанные между собой на взгляд постороннего наблюдателя, наделялись общим смыслом и значением теми, кто был включен в эту не всем очевидную систему интерпретаций.
Воздействия на душу человека часто осуществлялись, минуя сознание, посредством предметов – изображений, личных вещей, отрезанной пряди волос и т. п. Идеальное и материальное объединялись в ритуалах.
Идея единства мыслителя, мысли и ее объекта – это аксиома философии буддизма. Мир не существовал отдельно от наблюдающего (и тем самым создающего его) человека. В дохристианских культурах многобожия все стороны жизни были священны: жизнь прославляла сама себя (а стало быть, и кого-нибудь из богов) любым своим проявлением – заботой об урожае, сексом, искусством или простыми радостями трапезы. Многие авторитетные философы Нового времени, такие как Г. Лейбниц, А. Шопенгауэр, Б. Спиноза, Ф. Брентано, полагали, что это сам человек наделяет сущее свойствами материальности или идеальности, а изначально они этих свойств не имеют. Бесконечно многообразный чувственный и постигаемый мышлением мир представляет собой различные состояния единой природы, общего космоса, общей совокупности идей. Эти состояния (Спиноза называл их модусами) существуют одно в другом и представляются одно через другое, то есть, помимо очевидного значения, могут иметь еще и скрытый символический смысл. Человеческое бытие многозначно и бесконечно, потому и модусов может быть бесконечно много. Таким образом, картина мира состояла не из человека и его бытия в их отдельности, она включала в себя человека-в-бытии. Человек задавал вопросы не только словами, но и действиями, и часто получал ответ в несловесной форме; как писал К. Кастанеда, «мир соглашался». Или возражал.
Выдающийся российский философ Феликс Михайлов писал об архаичной картине мира так: «Когда мир был вечно живым, когда все в нем – от светил до травинок – зримо, образно соединялось прочными узами кровного родства, как бы воплощенного в ярких и пластичных, вечных и незыблемых чертах всех окружающих людей предметов, когда каждый человек ощущал себя в любом возрасте, в любой роли родового ритуала столь же значимой частью гармонии всего сущего, тогда и к каждому своему состоянию, к каждой телесной своей особенности он относился как к знаку, прямо указывающему другим и ему самому, на что он годен и какова его роль в этом вечном ритуале общения его сородичей… Явления мира не делились на субъективные и объективные: вещество, тело, его свойства и признаки жили по тем же правилам целесообразности воспроизводящего род ритуала, что и сами члены этого рода…» (Человек как субъект…, 2002, с. 12).
Все изменилось после появления философии Рене Декарта, который самой важной человеческой способностью назначил мышление. Пытаясь понять, как работает человеческая мысль, как она соотносится со всем телесным, врожденным и бессознательным, он незаметно отодвинул на задний план все остальные психические способности и качества человека – интуицию, чувства, образы. И конечно, его сильная и прогрессивная для своего времени философия сказалась на отношении ко всему не- и внеинтеллектуальному, косвенно – даже на судьбах умственно неполноценных, юродивых, которые до Декарта почитались, а после появления его работ стали либо изгоняться из городов и поселений, либо насильственно подвергаться лечению ( Фуко , 1997). Знаком современной цивилизации стало интеллектуальное, логичное, словесное.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу